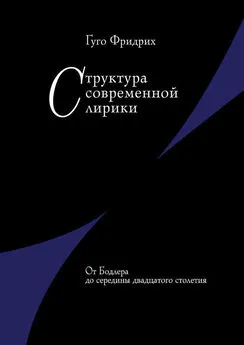Сергей Никольский - Русское мировоззрение. Смыслы и ценности российской жизни в отечественной литературе и философии ХVIII – середины XIX столетия
- Название:Русское мировоззрение. Смыслы и ценности российской жизни в отечественной литературе и философии ХVIII – середины XIX столетия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-89826-166-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Никольский - Русское мировоззрение. Смыслы и ценности российской жизни в отечественной литературе и философии ХVIII – середины XIX столетия краткое содержание
На начальном этапе – от Пушкина, Гоголя и Лермонтова до ранней прозы Тургенева, от Новикова и Сковороды до Чаадаева и Хомякова – русская мысль и сердце активно осваивали европейские смыслы и ценности и в то же время рождали собственные. Тема сознания русского человека в его индивидуальном и общественном проявлении становится главным предметом русской литературной и философской мысли, а с появлением кинематографа – и визуально-экранного творчества.
Русское мировоззрение. Смыслы и ценности российской жизни в отечественной литературе и философии ХVIII – середины XIX столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По мнению Чаадаева, народы Европы, в отличие от России, имеют общую идейную основу, «имеют общее лицо, семейное сходство; несмотря на их разделение на отрасли латинскую и тевтонскую, на южан и северян, существует связывающая их в одно целое черта… Еще не так давно вся Европа носила название христианского мира… Помимо общего всем обличья, каждый из народов этих имеет свои особенные черты, но все это коренится в истории и в традициях и составляет наследственное достояние этих народов. <���…> Дело здесь идет не об учености, не о чтении, не о чем-то литературном или научном, а просто о соприкосновении сознаний, охватывающих ребенка в колыбели, нашептываемых ему в ласках матери, окружающих его среди игр, о тех, которые в форме различных чувств проникают в мозг его вместе с воздухом и которые образуют его нравственную природу ранее выхода в свет и появления в обществе. Вам надо назвать их? Это идеи долга, справедливости, права, порядка. <���…> Вот она, атмосфера Запада, это нечто большее, чем история или психология, это физиология европейца. А что вы взамен этого поставите у нас?» [80].
В российском обществе, полагает Чаадаев, нет этой общей основы. Если что-то из западных идей и усваивалось, то лишь путем «бестолкового подражания» и, следовательно, не укоренялось глубоко. Такое положение губительно для человека. Если человек «не руководим ощущением непрерывной длительности, он чувствует себя заблудившимся в мире». Его удел – «бессмысленность жизни без опыта и предвидения». Свое бытие человек не сочетает «ни с требованиями чести, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с наследственными стремлениями данной семьи и со всем сводом предписаний и точек зрения, которые определяют и общественную, и частную жизнь в строе, основанном на памяти прошлого и на заботе о будущем. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособленно и все там шатко и неполно» [81].
Отсутствие ощущения реально существующей «непрерывной длительности» опыта и привычки сопрягать свое бытие с «требованиями чести», «успехами какой-либо совокупности идей и интересов» и предопределяет «неустойчивое положение» русских. Такова одна из фундаментальных идей Чаадаева.
К этой идее он возвращается постоянно: «В природе человека – теряться, когда он не в состоянии связаться с тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую уверенность. <���…> Такие растерянные существа встречаются в разных странах; у нас – это общее свойство. <���…> Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то даже до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее обличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы. <���…> Я бывал поражен этой немотой наших выражений» [82].
Что же является причиной столь неутешительного состояния нашего народа? Прежде всего, по мнению Чаадаева, все народы проходят период юношеского становления, когда их захлестывает волна «великих побуждений, обширных предприятий, сильных страстей», когда народы «наживают свои самые яркие воспоминания, свое чудесное, свою поэзию, свои самые сильные и плодотворные идеи». В это время создается как бы фундамент дальнейшего бытия народов. Какова же «печальная история нашей юности»? «Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее – иноземное владычество, жестокое, унизительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала» [83]. Эту пору российской истории «ничто не одушевляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Никаких чарующих воспоминаний, никаких прекрасных картин в памяти, никаких действенных наставлений в нашей национальной традиции. <���…> Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя» [84], «мы составляем пробел в порядке разумного существования» [85].
В то время как христианство, «безоружная власть», наделило другие народы выдающимися нравственными качествами и вело их к установлению на земле совершенного строя, мы «не двигались с места», у нас «ничего не происходило». Причина этого – как в исторической судьбе страны, так и в действиях самого народа. Говоря о народе, Чаадаев с горечью отмечает, что русские, приняв христианство, не изменились в соответствии с его парадигмой. Вне процесса всеевропейского религиозного обновления нас удерживали «слабость наших верований или недостаток нашего вероучения» [86].
Течение внеисторической жизни России не может быть изменено до тех пор, пока мы не воспримем « традиционных идей человеческого рода», на которых основана жизнь народов и происходит их нравственное развитие. России нужно встать на путь ученичества. «К нашим услугам – история народов и перед нашими глазами – итоги движения веков» [87]. Путь обновления России – путь освоения христианства: нам «необходимо стремиться всеми способами оживить наши верования и дать нам воистину христианский импульс… Вот что я имел в виду, говоря о необходимости снова начать у нас воспитание человеческого рода» [88]. Естественно, начинать нужно с добывания собственного знания, приобретения собственного опыта, установления собственных традиций, глубокого осознания прошлого. Приобретения, составляющие нравственную природу народов, всегда есть результат их собственной внутренней работы, огромного напряжения всех человеческих способностей.
Расширенному ответу на вопрос «Как начинать эту работу?» посвящено второе чаадаевское письмо. Прежде всего, рассуждает Чаадаев о преобразовании нравственной природы народа, нужно сделать свой дом возможно более привлекательным и удобным, чтобы иметь «возможность всецело сосредоточиться в своей внутренней жизни». «Одна из самых поразительных особенностей нашей своеобразной цивилизации заключается в пренебрежении всеми удобствами и радостями жизни. Мы лишь с грехом пополам боремся с крайностями времен года, и это в стране, о которой можно не на шутку спросить себя, была ли она предназначена для жизни разумных существ» [89].
Далее нужно озаботиться тем, чтобы устроить себе «вполне однообразный и методический образ жизни… во всяком случае одно лишь постоянное подчинение определенным правилам может научить нас без усилий подчиняться высшему закону нашей природы» [90].
Также «надо избавиться от всякого суетного любопытства, разбивающего и уродующего жизнь, и первым делом искоренить упорную склонность сердца увлекаться новинками, гоняться за злобами дня и вследствие этого постоянно с жадностью ожидать того, что случится завтра» [91].
В России, в отличие от цивилизованных стран, где давно сложились образцы размеренной и неспешной жизни, все приходится делать как бы наперекор заведенным порядкам. Обращаясь к своему прямому адресату, помещице Е.Д. Пановой, Чаадаев предупреждает: «Вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами. И это буквально так. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве они не составляют окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в котором все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели» [92].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: