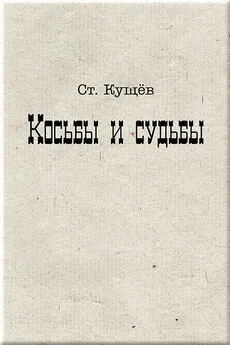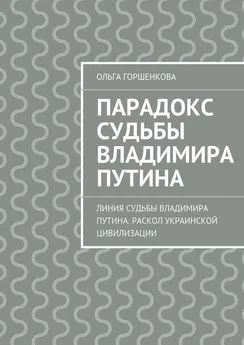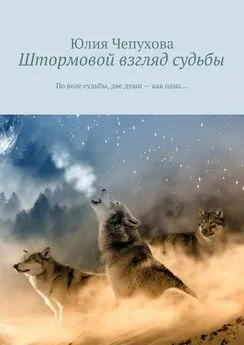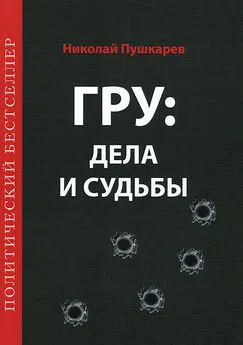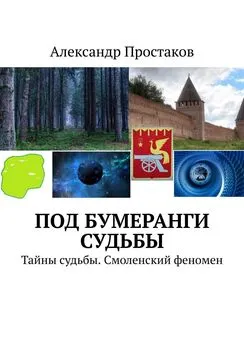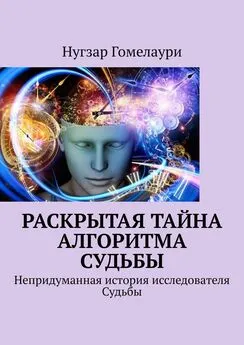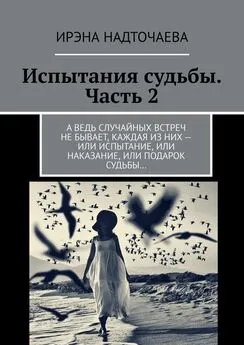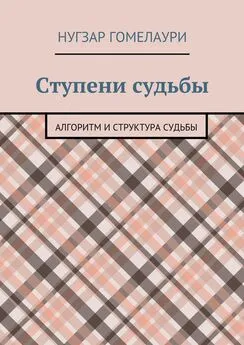Ст. Кущёв - Косьбы и судьбы
- Название:Косьбы и судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Издать Книгу»
- Год:неизвестен
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ст. Кущёв - Косьбы и судьбы краткое содержание
Автор хочет напомнить, что мудрость не имеет никакого отношения к формальному образованию, но стремится к просвещению. Даже опыт значим только количеством жизненных задач, которые берётся решать самостоятельно любой человек, а, значит, даже возраст уступит пытливости.
Отдельно – поклонникам детектива: «Запутанная история?», – да! «Врёт, как свидетель?», – да! Если учитывать, что свидетель излагает события исключительно в меру своего понимания и дело сыщика увидеть за его словами объективные факты. Очные ставки? – неоднократно! Полагаете, что дело не закрыто? Тогда, документы, – на стол! Свидетелей – в зал суда! Досужие личные мнения не принимаются.
Косьбы и судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«…Читал Канта. Его бог и бессмертие, то есть будущая жизнь, удивительны по своей недоказанности. Впрочем, он сам говорит, что не снимает с одной чаши весов своего желания доказать бессмертие. Основная же мысль о вневременной воле, вещи самой в себе, совершенно верна и известна всем религиям (браминской), только проще, яснее выраженная. Остается одна, но зато громадная заслуга: условность времени. Это велико. Чувствуешь, как бы ты был далеко назади, если бы, благодаря Канту, не понимал этого» – Толстой Л. Н «Дневник» 22 сентября 1904.
«… Почему мы стремимся вперед, все вперед? – потому что жизнь только в раскрытии» – Толстой Л. Н. «Дневник 13 февраля 1907.
«Движение вперед медленно, по ступеням поколений. Для того, чтобы двинуться на один шаг, нужно, чтобы вымерло целое поколение. Теперь надо, чтобы вымерли бары, вообще богатые, не стыдящиеся богатства, революционеры, не влекомые страданием несоответствия жизни с сознанием, а только тщеславием революции, как профессии. Как важно воспитание детей, – следующих поколений» – Толстой Л. Н. «Дневник» 20 апреля 1910.
В этом активном, внешнем подобии евангелиста постоянно прорывается материалист – природный, слишком умный, чтобы позволить плоское, ранее, упрощённое решение.
Философы, до идеализма мысли обычно грешны «идеализмом жизни». Они со временем явно позабывают «места произрастания булок». Толстой – редчайший пример мыслителя, который не то, что «принципиально», а как principes римского легиона не сходит с места в боевом строю действительного восприятия реальности. Бывали «реалисты»…, но степень и величина упора Толстого не знает равных. Умный «идеалист», понимающий «движение», делает неизмеримо больше для истины, чем глупый «материалист» схоластически перебирающий причины и следствия.
Бросим ещё один-два пристальных взгляда на его аргументы как бы религиозного свойства.
«Говорят: всё дело в вере; верить надо в библию, в церковь, в Магомета, Будду и всякую чепуху. И наслушавшись всего этого, мы получаем отвращение к этому слову и понятию веры и отбрасываем его. А это неверно, вера есть необходимое условие религиозного мировоззрения или, проще, разумного взгляда на жизнь. Без веры нельзя разумно смотреть на мир. Без веры можно только безумно смотреть на мир, воображая, что он как-то начался по механическим законам и никогда не кончится. Такой взгляд нелеп главное, тем, что говорится о том, как произошел мир и как развивался и т. п., а ничего не говорится о том едином, что нужно знать: что мне делать?
… Ответ на вопрос: что мне делать? ясен для всякого искреннего человека – любить выше всего Истину, благо – бога и вследствие того ближнего, и дальнего… руководясь, этой любовью
… Так и в вопросах о жизни, о "зачем" жизни. Помилуй бог вера дается по мере смиренной готовности творить волю Его». – Толстой Л. Н Письмо. В. В. Рахманову. 17 января 1890
Совершенно очевидно, что в этой, не то что религиозной, а груборелигиозной – мистической попытке аргументации, речь идёт совсем не о религии, а о поиске этической опоры.
Или здесь:
«… Одни – большая часть – скажут: пора уж эти глупости оставить. Нынче все понимают, что христианская вера – одна из религий. А все религии – суеверия, то самое зло, которое больше всех мешает развитию человечества…
… не только не считаю религию суеверием, но напротив, [считаю], что религиозная истина есть единственная истина, доступная человеку» – Толстой Л. Н «Записки христианина» 1881.
Утверждение на первый взгляд совершенно из религиозного идеализма, но разве Толстой сказал, что религия – истина истин? Или – главная истина? Сказано буквально лишь: религиозная истина– «единственная…доступная»…. Он, как писатель, во-первых, очень точен в словах. А, во-вторых, не по причине ли вменяемой посильности её для обыденного сознания?
Всё это – поиск этики «нового типа», необходимость которой он предчувствовал, но никак не мог найти и был вынужден блуждать возле религиозных причин обоснования такой «безусловной» этики. Эти инструменты уже безнадёжно затупились, но сама задача верна и так же злободневна. С тех пор мы никуда не продвинулись: чем же иначе объяснить квазирелигиозный «православный» (в кавычках) реванш, проросший на площадке сознания, раскатанной было катком «коммунизма»?
«Да – был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?». – Задирать Толстого просто, но возможна ли этическая истина иначе, чем прежде доступная, лишь как сугубо религиозная?
Толстой отвергает всё обрядовое, то есть наиболее востребованное массовым непросвещённым сознанием. Наивреднейшее и навязываемое с особым усердием культовое действо – форму института церкви. В кульминационной точке своей ревизии он испытывает тяжелейшие переживания. «Решительно сам не имею ни малейшего понятия о том, что я такое, что хорошо, что дурно. И как, убедившись в своем незнании, не видя из него выхода, я пришел в отчаяние и чуть было не повесился…». Это он художественно изображает, как происходящее с Левиным в «Анне Карениной»; а документально с собой – в «Исповеди».
Проступающая «общемировая» философия и есть его теоретическая опора, а никак не собственное, так называемое «учение Толстого», которое лишь недоразумение всеобщего заблуждения. Для него это неудача в преждевременном определении будущей точки поворота общественного сознания. Классические примеры:
«…Жена старшего сына Толстого Сергея, М. К. Рачинская, в молодости бывшая замечательным математиком, как-то в гостиной… завела разговор о "непротивлении злу", и на правах молодой женщины и родственницы дошла до того, что стала спрашивать: "Ну, если бы на ваших глазах стали насиловать вашу жену, Л. Н., неужели бы вы за нее не вступились и вам бы ее не было жалко?" Помню, как Толстой, который не любил таких разговоров в гостиных, ей коротко ответил: "Мне было бы еще больше жалко насильника". Такой нежданный ответ вызвал смех, что было неприятно Толстому. Ибо в самом ответе была не шутка, а глубокая мысль» 41
Помимо удивительной «вольности нравов», и, добавим, вопросов, очевидна легкомысленная невосприимчивость даже близкого общества к той манере убеждения, которую выбрал Толстой, очевидно, не имеющей буквального истолкования! На самом деле, Маклаков, вероятно, не совсем правильно оценил эту сцену: Толстой до 50-ти лет сознательно поддерживал в себе положенный аристократу «тонус» дуэлянта, а при одном намёке в покушении на честь жены впадал в ярость. Конечно, предвидя его настоящую реакцию в подобном случае, домашние могли дразнить «папа́», но какого рода идеи заставляли его прибегать к столь скандальным аргументам?
Натыкаться на несообразные противоречия в «учении» приходится на каждом шагу. Но нельзя забывать о высоте задачи, которую он себе поставил: примирить общество само с собой, всех – от неграмотного богомольца до образованного атеиста! От безлошадного крестьянина до знати! Разве не то же он задумывал с изданием своей Азбуки: чтобы она годилась для обучения, как царским детям, так и мужицким? И только успевал вставлять время от времени:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: