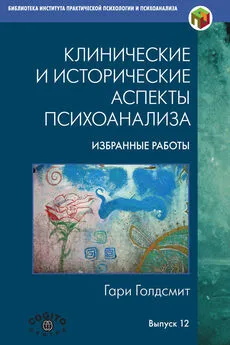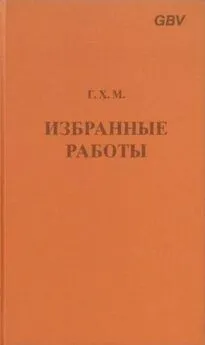Николай Хренов - Избранные работы по культурологии
- Название:Избранные работы по культурологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Согласие»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906613-01-1, 978-5-906709-01-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Хренов - Избранные работы по культурологии краткое содержание
Книга предназначена для ученых-культурологов, преподавателей культурологии, докторантов и аспирантов, ведущих исследования по проблемам культурологической науки и образования.
Избранные работы по культурологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мимо дискуссии об упадке не проходит и Д. Мережковский. Он тоже эти разговоры об упадке относит к старшему поколению. Он признает, что Россия вошла в этап переживаемого его современниками варварского и непонятного одичания («Цивилизованное варварство среди грандиозных изобретений техники» [211, с. 170]). Тем не менее, в отличие от С. Дягилева и Д. Философова, Д. Мережковский предшественников нового искусства, если под ним понимать символизм, который сам он и представляет, все же находит. Конечно, негативная оценка нового искусства справедливой не была. Но ведь эту эпоху все же не зря называют эпохой смуты, которая, видимо, не закончилась даже в наши дни. Не случайно по этому поводу П. Гайденко пишет так: «Русская смута, начавшаяся, вероятно, еще до первой революции, где-то в последнее десятилетие XIX столетия, судя по всему, еще не закончилась, и конец XX века в России возвращается к его началу» [87, с. 8].
Вот и ответ на вопрос, почему исследование культуры этого периода сегодня является весьма актуальным. Те творческие импульсы, что в эту эпоху возникли, все еще являются актуальными, как и тот социальный контекст, в котором они были вызваны к жизни. Обозначение этой эпохи как смуты не умаляют ее значимости, ведь выдающиеся мыслители смутной эпохой называли, в том числе, и Ренессанс, тоже превосходную в творческом отношении эпоху. Так ее называл, например, Х. Ортега-и-Гассет. «Каждый, кто приступил к исследованию отрезка европейской жизни с 1400 по 1600 годы, – пишет он, – убежден в том, что это самый смутный и на сегодняшний день совершенно неизученный, в сравнении с остальными, период нашей западной истории» [234, с. 235].
Называя эту эпоху смутой, мы лишь пытаемся подчеркнуть, что она выпустила из привычных границ культуры то, что Ф. Ницше называл дионисийской стихией, а вместе с этой стихией и то, что еще Гете называл демонизмом, улавливая в его природе амбивалентность: т. е. и то, что сопровождает всякое проявление гениальности, и то, что сообщается с нечеловеческими стихиями бытия. В связи с темой демонизма весьма любопытно суждение А. Бенуа, который в своем кумире Ф. Достоевском находил «сплетение божественного с демоническим» [32, кн. 4–5, с. 92]. Об этом же сплетении вспомнил, пытаясь дать характеристику своего времени, Д. Мережковский («Этот олимпиец сам часто говорил о том темном, ночном, недоступном разуму «демоническим», как он любил выражаться, с чем он боролся и что управляло всей его жизнью» [211, т. 1, с. 146]).
Собственно, во многом определивший мировосприятие всей эпохи В. Соловьев в то же время смог подняться над эмпирикой этой эпохи и увидеть в этих комплексах дионисийства и демонизма самое уязвимое место своей творческой эпохи. Прочитывая творчество М. Лермонтова сквозь призму столь привлекательной в эпоху Серебряного века идеи сверхчеловека Ф. Ницше, В. Соловьев говорит о правде и лжи первоначальной истины, имевшей рациональное зерно, но подвергшейся извращению, что носителей этой идеи, в том числе, и среди творцов Серебряного века обрекало на мучительные искания. Никогда еще не было в русской культуре такого пафоса личности и ее свободы, как это было в эпоху Серебряного века. Но именно в эту эпоху уже начинала давать о себе знать и уязвимость этой свободы личности (и в этом повторилась трагедия, известная по западному Ренессансу), что привлекло внимание к философии А. Шопенгауэра, уловившего опасность такой свободы, оборачивающейся индивидуализмом как болезнью, и открывшего для себя Восток как средство оздоровления от порождающего культуру недуга.
Вот почему А. Белый открывает философию А. Шопенгауэра («Шопенгауэр впоследствии мне был ножом, отрезающим от марева благополучий конца века; а когда я им себя отрезал от конца века, я взглянул в будущее с радостным “Да будет!”» [23, с. 188]). Вот почему В. Иванов вызывает к жизни утопию «соборного» творчества как верное средство преодоления и индивидуалистической культуры, и индивидуализма вообще. Потом Н. Бердяев прокомментирует эту идею «соборности» культуры у В. Иванова. «И какая ирония судьбы! – пишет он. – В России индивидуализм культурного творчества был преодолен, и была сделана попытка создать всенародную, коллективную культуру. Но через какой срыв культуры! Это произошло после того, как был низвержен и вытеснен из жизни весь верхний культурный слой, все творцы русского ренессанса оказались ни к чему не нужными и в лучшем случае к ним отнеслись с презрением. «Соборность» осуществилась, но сколь непохожая на ту, которую искали у нас люди XIX и начала XX века» [41, с. 135].
Под дионисийской стихией следует понимать языческую стихию, возникающую и активно проявляющую себя в русской культуре, до этого развивавшейся в соответствии с заимствованными из Византии христианскими традициями. Подводя итог религиозному возрождению начала XX века, П. Гайденко указывает, что этот религиозный ренессанс развертывался по ложному пути, так как в нем активизировалось язычество, а именно это-то и позволяет выявить его сходство с европейским Ренессансом XV–XVI веков [87, с. 391].
Казалось, что на время история и культура устранили свое воздействие на искусство, и оно становилось абсолютно свободным. Но в данном случае под историей и культурой следует понимать то, что выразило дух старой империи. В искусстве этой эпохи больше ощущался инстинкт, нежели разум, эрос, нежели логос. Очень точно об этом выразился Н. Бердяев. «Дионисийское веяние прошло по России, – писал он, – захватив верхний культурный слой. Оргиазм был в моде» [41, с. 134].
1.15. Гипертрофированный в эпоху Серебряного века дионисизм как причина ностальгии по аполлоновским формам искусства
Возникший на рубеже XIX–XX веков в результате бифуркационного взрыва хаос не только ускорил распад империи, но и демонстрировал разрушение некоторых устойчивых традиций в искусстве. Однако это только кажется, что культура и история прекратили контролировать эксперименты в искусстве. Взрыв дионисийской стихии спровоцировал ностальгию по аполлоновским формам, по эпохе классики. Очевидно, что отодвинутый на периферию и, кажется, упраздненный романтической традицией и возрождением романтизма в символизме классицизм вновь актуализируется. Это происходит в момент, когда имеет место новая вспышка романтизма. Ведь символизм как репрезентативное явление рубежа веков означал возвращение к романтической традиции [392].
Об этой ностальгии по классицизму и вообще по «золотому» веку свидетельствовала, например, организованная в 1905 году в Таврическом дворце историко-художественная выставка русских портретов, имевшая огромный резонанс, и не случайно. Она подводила к осознанию финала всей этой возникшей в петербургский период российской истории, в контексте расцвета империи аполлоновской культуры. Такая развивавшаяся под знаком классицизма аполлоновская культура была, но она уже исчезала. Мир входил в новую, неведомую еще эпоху. И вот тогда-то возникает и начинает распространяться ностальгия по классицизму. Это происходит именно в эпоху Серебряного века.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: