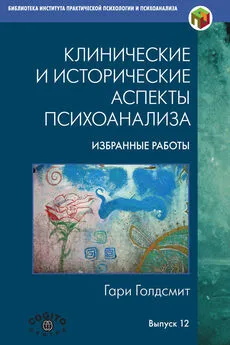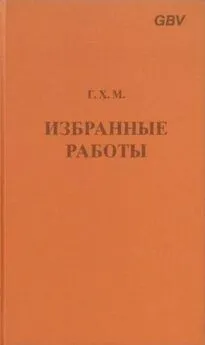Николай Хренов - Избранные работы по культурологии
- Название:Избранные работы по культурологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Согласие»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906613-01-1, 978-5-906709-01-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Хренов - Избранные работы по культурологии краткое содержание
Книга предназначена для ученых-культурологов, преподавателей культурологии, докторантов и аспирантов, ведущих исследования по проблемам культурологической науки и образования.
Избранные работы по культурологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Причины возвращения к екатерининской и александровской эпохе в ситуации, когда в искусстве этой эпохи торжествовала романтическая традиция, о чем свидетельствует символизм, лежат в социальной психологии эпохи. Получивший выражение в искусстве этого времени культ иррационального и дионисийской стихии породил ностальгию по аполлоновскому искусству, искусству рациональному и организованному. Новую эпоху, несомненно, выражал стиль модерн, имевший весьма кратковременную историю. В данном случае понятие модерн мы употребляем уже не в философском, а в искусствоведческом смысле, подразумевая под ним художественный стиль рубежа XIX–XX веков.
Начало модерна как художественного стиля датируется концом XIX века, а его распад – концом 1900-х годов. Конечно, он был ярким и популярным, хотя и спровоцировал разные оценки. Но одновременно он был и неофициальным. Как свидетельствуют исследователи, модерн так и не стал официально признанным стилем [58, с. 79]. Может быть, потому, что на первый план в нем выходил порыв к свободе, радикальный протест против общепризнанных норм. В нем ощущался выход из всяких культурных норм и возвращение к природной стихии, что, собственно, и позволяет усматривать в нем дионисийский инстинкт.
Это проявлялось, например, в стилизации растительного и животного мира, что характерно не только для декоративно-прикладного искусства, но и для архитектуры. В модерне стали множится изображения летучих мышей, ящериц, лягушек, змей, фазанов, павлинов, медуз, рыб, но в том числе, папоротников, мхов, колокольчиков, кувшинок и т. д. Как пишет исследователь, «бессловесный мир простейших или насекомых, обитателей подводного или подземного царства не подчинялся законам привычной гуманистической этики, будил первобытные инстинкты, воплощал торжество естественного отбора» [228, с. 164]. Некоторых это отпугивало, поскольку в предшествующие периоды истории искусства такой тенденции еще не было [228, с. 164].
В этих образах и мотивах модерна не мог не прочитываться бунт и против давления цивилизации с ее жесткими нормами, но в то же время и культуры с ее уже давно утратившими жизнь и отработавшими свой срок стилями. Короче говоря, в модерне происходил выплеск витализма, биологизма и игровой энергии, позволявших вернуться из многочисленных характерных для империи социальных связей и норм в состояние игры и свободы. Не случайно знаток архитектуры модерна Е. Борисова утверждает, что столь характерный для архитектурного стиля модерн элемент театрализации и игры затем перекочевал даже в неоклассицизм [58, с. 73]. Видимо, без ярко выраженного игрового инстинкта, который, например, столь очевидным образом присутствует в характерной для мирискусников театрализации жизни, культура Серебряного века вообще немыслима [282, с. 171].
В философии это настроение получает выражение в таком направлении, как «философия жизни», истоки которой уходят к Гете, а расцвет будет связываться с именем Ф. Ницше. Ближе всего этой философии оказывается стиль модерн. Поскольку в этом стиле было больше игры, он, кажется, уступал великим и авторитетным стилям. Конечно, он не мог перечеркнуть определяющие архитектуру XVIII и начала XIX веков стили. Она заявила о себе в таких архитектурных течениях, как неоампир и неоклассицизм, продолжавшие существовать параллельно с модерном и которые, в конце концов, его и вытеснили. Собственно, классицизм не умирал и во второй половине XIX века. Но тогда он утопал в эклектике. В начале XX века за образцы архитектуры были взяты итальянское Возрождение, русский классицизм и ампир [58, с. 35].
Не потому ли в 1909 году и возникает журнал «Аполлон», призванный поддерживать этот вытесняющийся распространяющейся дионисийской стихией комплекс? С этой точки зрения весьма показательна публикация в одном из номеров журнала «Аполлон» за 1914 год статьи Г. Лукомского. В ней высоко оценивается возвращение от начавшегося с Ф. Ницше распространения дионисизма и реабилитации архаики (в том числе, и античной) к винкельмановскому идеалу, когда-то на Западе представшем в раннем и позднем Ренессансе, но возникшем еще в античности.
Г. Лукомский фиксирует нарастающий интерес к пассеизму, т. е. возвращению архитектуры к классическим образцам. «По-видимому, эта любовь к «старине», наблюдаемая как в зодчестве, так и в прикладном искусстве, – пишет он, – объясняется тем, что, после всех неудачных попыток в 90-х годах минувшего столетия, к этим «новшествам» наступило отвращение… И вот сейчас в зодчестве искание первоисточников передвигается в еще более отдаленные эпохи. Столетний юбилей деятельности Захарова, Тома де Томона, Воронихина – застает нас на пороге изучения тех же первоисточников, которыми руководствовались и мастера расцвета классицизма в России. И постепенно от Палладио, Микеле Сан Микеле и Антонио да Сангалло Старшего мы переходим к подлинникам античной эпохи. При этом нравятся и архаизованные, опрощенные формы храмов Пестума и Сицилии, и барочная трактовка античных стилей (римская архитектура)» [185, с. 8].
Таким образом, в эпоху расцвета индустриального общества, когда возникает необходимость в возведении банков, народных домов, автогаражей, рынков, телефонных станций и метрополитенов, на протяжении всего периода Серебряного века не угасает и потребность в архитектуре классицизма. Вызванная вновь к жизни уже в самом начале XX века традиция классицизма еще долго продолжает быть актуальной, По сути, она будет гипнотически притягивать еще художников советской эпохи. Опыт искусства нескольких десятилетий XX века подтвердит мысль И. Грабаря. Эта возникшая в Серебряном веке ностальгия по аполлоническому искусству получит выражение в 30-е годы, когда архитекторы этого десятилетия вновь обратятся к классицизму. Снова будет издан идеолог классицизма – И. Винкельман.
Однако вот что интересно. Несмотря на успешные попытки возродить в начале XX века классицизм, все же это возрождение свидетельствовало лишь о ментальном идеале, о стремлении в ситуации разваливающейся империи сохранить нечто устойчивое. Этим символом устойчивости был расцвет в истории России петербургского периода и соответствующий ему стиль классицизма. Однако жизнь развертывалась в ином направлении. Империя разваливалась, а Россия двигалась к катастрофе. Поэтому нельзя не оценить и тех отзывов о классицизме, в которых фиксировалось разложение этого вытесняющего стиль модерна на периферию архитектурного идеала с состоянием общества. Так, задавая вопрос – что вызвало появление неоклассицизма, архитектор О. Мунц пишет так: «Протест ли против «модерна», бесцеремонно ворвавшегося в жизнь и посягнувшего на все традиции архитектуры, своего ли рода узко понимаемый «классический» национализм, или же эпоха творческого безвременья, заставляющая видеть неизъяснимую прелесть в «далеком», хоть не недавнем прошлом – это все равно. Важно и страшно то, что такой классицизм, наравне с возвеличением декоративных свободных форм вообще, грозит катастрофой: совершенным отделением так называемой художественной архитектуры от собственно строительства с его техническими, инженерными новшествами. Каменные декоративные фасады, навешенные на железобетонный остов, резкой фальшью конструкции знаменует приближение катастрофы… Строительство будущего отвергает эти навешанные и даже ненавешанные фасады с их приклеенными рустами, железобетонными пустотелыми колоннами и прочей бутафорией «стиля», желающего лишь рекламировать, поражать и, в лучшем случае, подражать, но не приспособляться к жизни, не отражать ее более глубокое содержание» [58, с. 217].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: