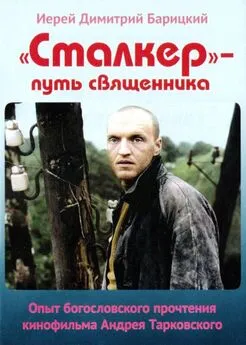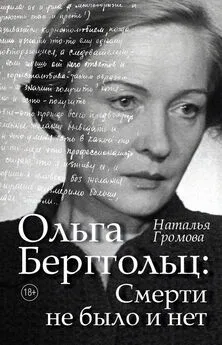Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения
- Название:Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Индрик»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-266-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения краткое содержание
Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Учет незримого третьего приводит не только к дезавтоматизации кода, но на основе этой дезавтоматизации – к прирастанию нарратива, дроблению его больше чем на две субъектности. При этом возникает и двоение денотата-референта, отсылающего как к предмету, так и к его отражению как представлению о предмете. Информационная троичность зеркального отражения выражена М. Бахтиным: «В зеркале Я намерен показать 1) не себя, а лицо, которое Я намерен показать Другому; 2) реакцию на него Другого; 3) реакцию на реакцию Другого» [Бахтин 1979]. Добавим, что реакция на реакцию не только выявляет механизм отражения = кода, но и собственно порождает этого дополнительного участника коммуникационного процесса как посредника. Троичность зеркала обусловила и его роль в традиционной картине мира, народную магию и «неявно намекает на старинную репутацию зеркала как дьявольского стекла» [Исупов интернет-ресурс].
Косвенное повествование и коммуникативная, а стало быть, речевая природа зеркального отображения в повествовании отражены в литературе: достаточно вспомнить пушкинские строки «Свет мой зеркальце, скажи…». Золян в одноименной статье рассматривает волшебное зеркало как модальный оператор, преобразующий одну функцию в другую и как овеществленное описание семантики высказывания [Золян 1988]. В контексте культурных механизмов в целом Т. В. Цивьян закрепляет за зеркалом значение «чужой речи» как посредника, устанавливая соответствие между феноменом отражения в культуре и механизмом самоидентификации национальной культуры, в связи с которой возникает введение пересказа от лица анонимного третьего: «правильно про нас говорят…» [Цивьян 2001] [6] «Отсылка к факту отражения может служить дополнительным подтверждением аутентичности… К этому же: в бытовых ситуациях часто введение категории пересказа, то есть ссылки на чужую речь, чужое мнение: “вот правильно про нас говорят…”» [Цивьян 2001: 12].
. Мотив третьего в связи с зеркальным отражением в литературе отмечается и Й. Ужаревичем. По поводу стихотворения Ахматовой «Проводила друга до передней» (1913) и строк «А глаза глядят уже сурово / в потемневшее трюмо» он пишет: «opozicija… pretpostavlja postojanje nekih “trećih očuju”, koji istodobno vide i ogledalo… i oči koje gledaju u ogledalo, i oči odzrcaljene u ogledalu. …Te treče, istinske videce oči nije moguće otkriti na strukturno-pojavnom planu… te treće oči krajnja su instancija cijeloga vizualnog komleksa, i kao takve one su načelno nevidljive… riječ je o onoj transf zioloskoj, a možda i transf zičkoj sferi koja se obično naziva sviješću, duhom» [7] «Эта оппозиция предполагает наличие неких “третьих” глаз, которые одновременно видят и зеркало, и… глаза того, кто смотрится в зеркало, и глаза, отраженные в зеркале. …Эти третьи глаза, истинно видящие глаза, невозможно выявить на уровне структурно-феноменологическом… эти глаза являются пределом всего визуального комплекса, и в качестве таковых они изначально невидимы… речь идет о той трансфизиологической, а возможно, и трансфизической сфере, которую принято называть сознанием, духом» (пер. мой. – Н. З. ).
[Užarević 1995: 82, 84].
В живописи зеркальное отображение (sub specie – отражение в зеркале как мотив) также наделено характеристиками агента речевой коммуникации. Вовлекая третьего как анонимного (= коллективного) адресанта, зеркальное отражение в живописи, вследствие своей неопределенности в отношении к истинное/ложное, порождает саморасширение информации за счет мифологического приращения смыслов в процессе ее передачи и приема со стороны адресатов. Анализируя кубистическую живопись, Р. Якобсон писал: «…есть попытки усугубления точек зрения на предмет и в старой живописи, оправданные искажением пейзажа или тела в воде либо в зеркале» [Якобсон 1987: 414]. Усугубление точек зрения – это проблематизация позиции рассказчика, применительно к живописи выступающая в форме визуализации точек зрения, их взаимодействия в пространстве полотна.
Именно в аспекте точек зрения, т. е. в плане пространственности понимается нарратив в живописи. Как уже говорилось, в зеркале как посреднике обнаруживается соответствие категории несобственно-прямого, т. е. косвенного повествования в составе авторской речи. Позиция рассказчика проявляет себя в зоне противопоставления оплотненного плана содержания (объектное высказывание) столь же оплотненному плану выражения (субъектное высказывание). Однако характер этой экспликации рассказчика в мотиве зеркала и роль зеркала как самостоятельного посредника-рассказчика, незримого свидетеля, на протяжении истории искусства менялись в соответствии с типом культуры.
Если в миметическом искусстве зеркало собирало изображение, раздвигая границы видимого, в барокко оно ставит под вопрос идентичность «Я», в символизме удваивает миры, открывая бездну демонического инобытия, т. е. реализуя миф о Нарциссе. О демоничности зеркала у первого поколения символистов и противопоставившего им значение зеркала как прозрачности у второго поколения, вместе с закрытием им дурной бесконечности отражений посредством концепта двойной бездны, подробно пишется в исследовании о символизме А. Ханзена-Лёве [Ханзен-Лёве 1999б]. В авангарде эстетика зеркала является знаком распыления реальности. Кубистическое дробление предмета, видимого с нескольких сторон одновременно, есть в известной мере результат расширения пространства за счет зеркального отражения. В поставангарде – советской живописи переломной эпохи конца 1920-х и начала 1930-х годов – вновь возникает мотив зеркала: он появляется в составе натюрмортов, использующих набор традиционного (особенно характерного для барокко) сюжета vanitas. Однако какова бы ни была роль мотива в любом из указанных значений, в контексте той или иной модели культуры проявляется третий как речь скрытого персонажа, имплицитно вводимого в рассказе автора.
Неявный рассказчик (значимый третий) в живописи мог приобретать формы обозначения, не связанные с мотивом зеркала. Так, оптический способ обозначения неясного видения дают разнообразные обманки барокко: например, анаморфизм в уже упоминавшейся в предыдущей главе картине Гольбейна Младшего «Послы» (1636), где непонятный предмет на первом плане, будучи мысленно спроецирован под другим углом, дает изображение черепа. Другой пример скрытого персонажа посредством оптического трюка – сюрреализм С. Дали: на его полотне «Невольничий рынок с явлением исчезающего бюста Вольтера» (1940) группа персонажей на заднем плане может одновременно зрительно выстраиваться в изображение бюста великого философа [илл. 11]. Помимо оптических приемов обозначения стороннего наблюдателя/повествователя в истории живописи был распространен способ игры в истинную/ложную идентификацию автора полотна. Так, облик автора в виде одного из фоновых персонажей предстает на картинах В. Пукирева («Неравный брак», 1862), А. Иванова («Явление Мессии», 1837–1957), В. Сурикова («Утро стрелецкой казни», 1881) [8] Список станковых произведений, в композиции которых введен портрет автора, может быть значительно расширен – от итальянского Возрождения до наших дней.
.
Интервал:
Закладка: