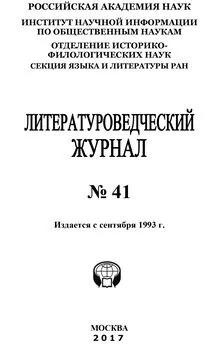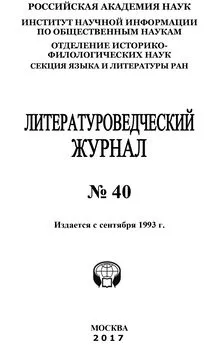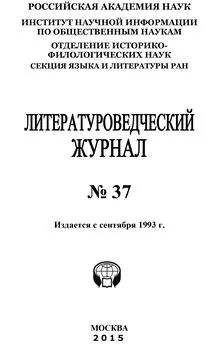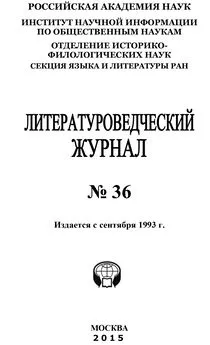Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого
- Название:Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:научных изданий Агентство
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:2010-27
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого краткое содержание
Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Безусловно, малые успехи юного Иртеньева на избранном пути можно было объяснять постоянными «диверсиями» разума, который «искушает» неопытную душу пороками и страстями цивилизованного мира. Появился в его судьбе также «цивилизованный» идеал comme il faut – самодостаточного светского человека, появились, как ни противилось этому его чувствительное «я», молодецкие кутежи, порочные забавы, принятые как норма окружающей средой…
Но если бы только этим и ограничивались проблемы молодого героя! Главную из них, конечно, представлял его собственный внутренний мир, та исключительная «шкала ценностей», что образовалась в нем за все прошедшие годы. Иртеньев, разумеется, как то и надлежит человеку его возраста, выбрал для себя дело в жизни. Он усиленно занимался с учителями и поступил на математический факультет университета. Но все эти события, кажется, не имели ничего общего с «моральными открытиями» Иртеньева, находились где-то за пределами его нравственной жизни. Юношеская мечтательность, жажда красоты и гармонии, особенная теплота дружеских отношений, которые возникают и, как никогда поэтично, развиваются в первую сознательную пору – все это было показано, а зачастую открыто художником с ему одному свойственным талантом. Но показано в душе, готовой каждому из таких явлений придать новую цену, отнести их на счет неких особенных мировых законов. По существу, эта изумительная сила изображения и выступала оборотной стороной такого «духовного переподчинения» реальности.
Последняя часть трилогии представляла героя слишком необыкновенного, внутренне слишком обособленного для того, чтобы увидеть «через его призму» общие закономерности человеческого бытия. В случае с Иртеньевым, конечно, произошло своеобразное становление личности. И все-таки личность, которая живет наиболее полно именно в слиянии с «безличным», которая жаждет отрешиться от «сознательного» во имя приобщения к «природному бессознательному», выглядела в высшей степени своеобразной, хоть, возможно, и очень показательной для своего времени, для воспитавшей ее среды.
В итоге повесть оказалась посвящена уже не столько «эпохе развития», сколько «эпохе развития Иртеньева», центр тяжести в ней переместился именно на фигуру главного героя со всеми его неповторимыми, «философическими» чертами. Вместо «Юности» и в самом деле, образно говоря, возникла «История моей юности». Замысел «всеобщего» романа получил слишком индивидуальное, субъективное свое продолжение. Состоялась не личность вообще (более или менее характерная), но явился толстовский герой как художественный тип, наиболее дорогой и родственный писателю.
Одновременно в повести произошла резкая идентификация личности Иртеньева-рассказчика. Поскольку написанные от первого лица «Детство», «Отрочество» и «Юность» предполагали некое последовательное движение к определенной цели, можно было предположить, что внутренний мир Николая Иртеньева, ведущего рассказ о собственном прошлом, как раз и является своего рода итогом развития героя на протяжении многих лет. Между тем личность повествователя, судя по всему, доставила художнику немало хлопот уже во время работы над первой частью трилогии. Замысел «Четырех эпох развития» был по-своему экспериментальным, а повзрослевший Иртеньев должен был с первых же страниц являть собой уже некий итог состоявшегося эксперимента.
На страницах «Детства» и «Отрочества» появился рассказчик по-своему очень условный, изменчивый, если не сказать – эклектичный. Он мог высказывать вполне толстовские суждения о мире и о себе, а мог занять и более отстраненную, более традиционную позицию. Такая «подвижность мировоззрения» у героя-повествователя, собственно, была единственным выходом для молодого художника, предпринявшего по-своему дерзкое «путешествие» к неведомой цели.
Иначе обстоит дело в «Юности». Тут стало уже ясно, что юноша, «обретя опытность», станет именно таким Иртеньевым, а не тем «обыкновенным» героем, каким он выступал порой в более ранних частях трилогии. Рассказчик-Иртеньев и герой повести сблизились, хотя и не сошлись во времени, и, подобно тому как становилось все более исключительным действующее лицо произведения, столь же обособленным оказывался его герой-повествователь. Но хотя и предполагалось, что этот взрослый герой со своим иртеньевским отношением к вещам уже сумел занять определенное место в мире, похоже, и для него, и для юноши Иртеньева оставалось большой загадкой, как вообще можно «войти» в цивилизованную реальность, будучи послушным только непринужденному «голосу природы».
Николай Иртеньев «задержался» на пороге деятельной эпохи не только потому, что ему мешало «сознательное» в нем самом и в мире. Гораздо труднее было решить и герою, и его создателю как использовать, и можно ли вообще использовать во благо это «прекрасное чувствительное». Жизнь, которая окружала юношу со всех сторон, казалось, шла своим заведенным кругом и вовсе не предполагала такого вмешательства.
Сравнительно с первой и второй частями трилогии роль объективной реальности, существующей независимо от переживаний Николая Иртеньева, на страницах «Юности» заметно возросла. «Погружения» в душевный мир героя стали тут важнейшим, но далеко не единственным определяющим элементом повествования. Наряду со сквозными персонажами трилогии в новой повести появились университетские преподаватели, знакомые героя по учебе: Зухин, Семенов, – просто случайные лица, как тот офицер, что однажды провоцировал оторопевшего юношу «выйти к барьеру». Оставаясь другом Дмитрия Нехлюдова, герой познакомился и с его семейством. Этот объективный мир очень мало походил на ту малиновую чащу, где так привольно дышалось «вошедшему в силу» молодому Николеньке. Более того, временами эта многоцветная, цивилизованная реальность готова была заслонить собой и самого героя, «отодвинуть» его куда-то «на обочину» повествования. В повести появился как бы «другой фокус», еще не разрушающий, но готовый пошатнуть стержневой принцип трилогии. Какой-нибудь пьяница Семенов, продавший себя в солдаты, мог показаться на миг едва ли не более интересным и цельным характером, чем погруженный в «наслаждение любить добро» растерявшийся Иртеньев.
«Юность» оказалась первым произведением Толстого, успех которого не стал безоговорочным. Еще до появления повести в печати, одновременно с высокой оценкой многих ее страниц, критические замечания о ней высказал писателю в частном письме опытный А.В. Дружинин (Толстой просил его ознакомиться с «Юностью» в рукописи). Главными недостатками повести (Дружинин тут же оговаривался, что каждый из них «имеет свою часть красоты и силы») известный литератор считал «растянутость» отдельных эпизодов и «поползновение к чрезмерной тонкости анализа» 7 7 Л.Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. – М., 1978. – Т. 1. – С. 267.
.
Интервал:
Закладка: