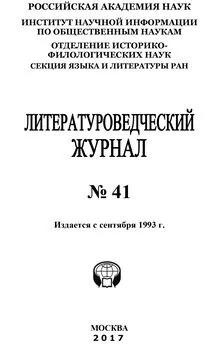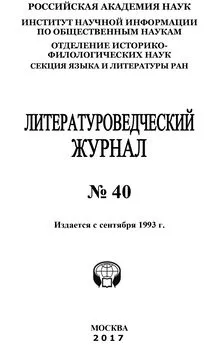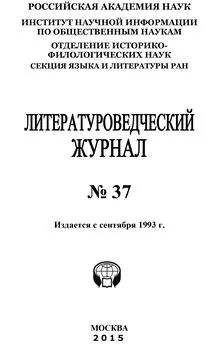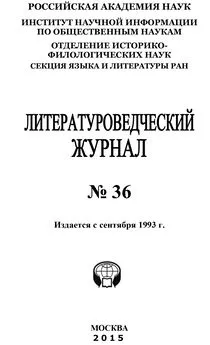Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого
- Название:Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:научных изданий Агентство
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:2010-27
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого краткое содержание
Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С Дружининым были вполне солидарны и многие другие критики, писавшие о «Юности» после ее выхода в свет. Относительно тонкости наблюдения Толстого за психическим строем души, пожалуй, наиболее точно высказался К.С. Аксаков: «Анализ гр. Толстого часто подмечает мелочи, которые не стоят внимания, которые проносятся по душе, как легкое облако, без следа; замеченные, удержанные анализом, они получают большее значение, нежели какое имеют на самом деле, и от этого становятся неверны. Анализ в этом случае становится микроскопом. Микроскопические явления в душе существуют, но если вы увеличите их в микроскоп и так оставите, а все остальное останется в своем естественном виде, то нарушится мера отношения ко всему окружающему, и, будучи верно увеличены, они делаются решительно неверны, ибо им придан неверный объем, ибо нарушена общая мера жизни, ее взаимное отношение, а эта мера и составляет действительную правду» 8 8 Аксаков К.С. Обозрение современной литературы // Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. – М., 1982. – С. 234.
.
Между тем избыточная психологическая придирчивость, кажется, была продиктована в повести именно положением «душевного простоя», в котором оказался ее герой. Приложение к действительности начал «естественной» любви представляло собой сложную проблему. Не находя способов для «сообщения» того лучшего, что переживал в себе Иртеньев, с действительным, объективным миром, Толстой оказывался принужден снова и снова анализировать его большие и малые душевные движения.
На последних страницах повести герой терпел решительное поражение в его стремлении к «деятельному добру». Все закончилось тем, с чего и начиналось: одним только страстным желанием добродетели. Иртеньев провалился на переходных экзаменах и его исключили из университета. Понятно, что увлечение «комильфотностью», что студенческие пирушки мало способствовали его учению. Но разве сама университетская наука не принадлежала в повести к числу таких же ложных, «умственных» начинаний, которые ничего не могли сказать (тем более что Иртеньев учился на математика) живому, «чувствительному» сердцу? Иртеньеву с его внутренним миром, каким он сложился за прошедшие годы, по большому счету, и нечего было делать в университете. Ничто «цивилизованное» к нему и не должно было «привиться».
Перенеся эту «необходимую» катастрофу, герой доставал свои давнишние, написанные им в самом начале повести «Правила жизни», чтобы «войти» в совершенно другую («более счастливую» – говорилось у Толстого) половину своей юности. Но попытки художника продолжить работу над повестью (он написал начерно одну главу и самое начало следующей) не увенчались успехом, да едва ли Толстой и брался за дело основательно и всерьез. О переходе к четвертой части первоначального плана – «Молодости», нечего было и говорить. Замысел исчерпал себя. Иртеньев-деятель, Иртеньев-личность не находил приложения своему идеальному «я» в мире объективном, реальном.
Тем не менее тот «импульс», что сообщила эта первая, «внутренняя», эпопея всему творчеству писателя, оказался поистине огромным. Жизненная «заминка», дальше которой не суждено было продвинуться молодому Иртеньеву, вовсе не казалась Толстому свидетельством неверно найденной его героем «точки отсчета». Очевидно, для художника проблема находилась не столько в области религиозно-философских понятий (он не сомневался в истинности своей веры), сколько в области творческой. Дальнейшее развитие «иртеньевских» начал оказалось невозможным в рамках «Четырех эпох развития» с уже существующими в трилогии поэтическими законами. Для того чтобы толстовский герой действительно попытался реализовать себя, чтобы соединился с миром, требовалось найти иное художественное соотношение между ним и окружающей его средой. Может быть, перенести героя в другую, менее «цивилизованную» среду, а, возможно, создать на материале реальной жизни новую «творческую вселенную», которая бы во всем отвечала его идеальным установкам. Правда, был и совсем другой путь: «вывести» героя в иную духовную реальность, придать его сокровенному миру недоступную прежде объективную «смысловую вертикаль»…
Трилогия Толстого принесла в русскую литературу необыкновенной красоты и правдивости «внутренние картины», новые своеобразные национальные типы, десятки неповторимых положений и ситуаций. Она открыла психологическую «диалектику взросления», которую, возможно, до той поры принято было считать несуществующей. Но, как бы то ни было, с точки зрения дальнейшего движения писателя главным ее итогом оказалось «рождение» «своего» героя. В середине 1850-х годов Толстой, по всей видимости, еще не до конца был готов к решению вытекающих из этого обстоятельства творческих задач, даже испытал перед ними известную растерянность. Их решение стало работой на много десятилетий вперед. В 1895 г. на вопрос художника П.И. Нерадовского: «Когда же будет продолжение “Юности”? Ведь вы кончаете повесть обещанием рассказать, что будет дальше с ее героями» Толстой ответил: «Да ведь все, что было потом написано, и есть продолжение “Юности”» 9 9 Нерадовский П.И. Встречи с Толстым // Литературное наследство. Т. 69. – М., 1961. – Кн. 2. – С. 132.
. Даже и в ту позднюю пору его жизни этот ответ нельзя было считать окончательным.
МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ АНТРОПОНИМИКА «ВОЙНЫ И МИРА» ТОЛСТОГО
Миф есть развернутое магическое имя.
А.Ф. Лосев
Антропонимическая, как и топонимическая система «Войны и мира» является одним из основных кодов произведения, ключей к авторскому замыслу и жанру. Имена многих вымышленных героев имеют отношение к главнейшим концептам произведения, объединяющим целые группы мотивов; это особенно характерно для таких антропонимов, как «князь Андрей», «Болконский», «княжна Марья», «Пьер», «Василий», «Элен», «Ипполит», «Платон Каратаев», «Наташа», «Ростовы», «Телянин», «Пелагеюшка», «Федосьюшка», «Савельич». (Список этот, как увидим далее, кажется произвольным или причудливым только на первый взгляд.)
Удивительно, но и некоторые имена исторических деятелей, нашедшие отражение на страницах «Войны и мира», тоже оказываются мотивированными, вполне в соответствии с тезисом В.Н. Топорова о том, что «одна из существенных особенностей мифопоэтических текстов состоит в возможности изменения границ между именем собственным и нарицательным вплоть до перехода одно в другое» 1 1 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. – М., 1995. – С. 208.
. Так, «говорящими», наполненными важнейшей для авторской концепции символикой оказываются имена Михаила Кутузова и Наполеона Бонапарте, которые, как будто специально для целей Толстого, награждены Провидением столь значимыми именами.
Интервал:
Закладка: