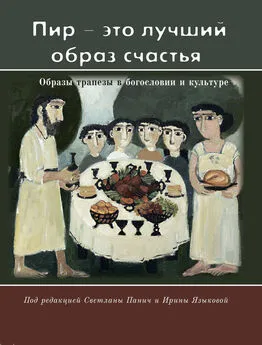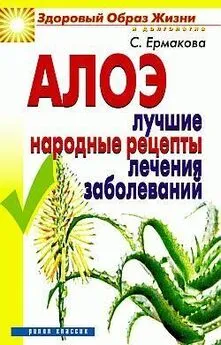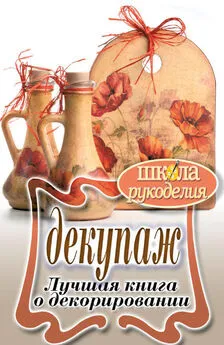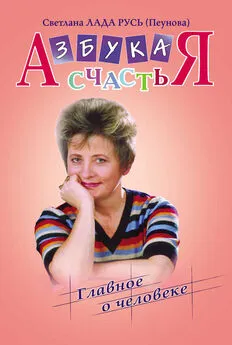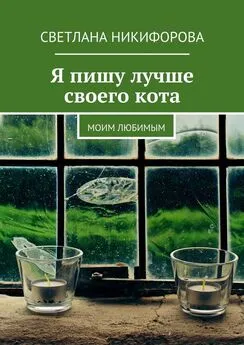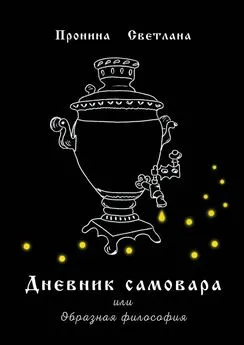Светлана Панич - «Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре
- Название:«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ББИ
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89647-336-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Панич - «Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре краткое содержание
«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но тем самым, Исаак смотрит назад и тормозит историю. Он проявляет экуменический настрой, свойственный его отцу Аврааму, который был «отцом многих народов», и ко всем своим потомкам, видимо, относился толерантно [39] Об организации текста, говорящей в пользу такого мнения, см.: A. Pury, de, «Situer le cycle de Jacob quelques réflexions, vingt-cinq ans plus tard», in: Studies in the Book of Genesis / Ed. by A. Wenin, Leuven, 2001, pp. 213–241 (226–227).
. Таким образом, Исаак больше сын своего отца, чем начало Израиля. По счастью, его ошибку исправляет Ревекка; она продвигает Иакова и тем направляет историю в нужную сторону – к производству скота, который можно приносить в жертву, причащаясь с помощью жертвенной трапезы Богу Израиля.
Кроме того, из съедобного не приносили в жертву мед (Лев 2:1) – под предлогом его склонности к брожению, то есть, к порче. Однако предлог представляется несколько надуманным: мед, вообще говоря, консервант; если его специально не сбраживать, он сам по себе не бродит. Возможно, этот запрет также связан с религиозной полемикой – по вопросу сакрализации жертвы. Дело в том, что жертва становится сакральной именно в процессе жертвоприношения; но конкретно с медом ситуация особая. Вероятно, с точки зрения борьбы с чуждыми культами мед представлялось целесообразным как раз десакрализовать, ибо во всех культурах Сре диземноморья он был продуктом священным [40] Литература о пчелах и меде достаточно обширна; для краткости сошлюсь на свою работу, где представлены более или менее полные обзоры: Е. Федотова, «Лев и пчелы в загадке Самсона (Суд 14:8-14): от символа к интерпретации», в.: Труды Русской антропологической школы, № 10, М., 2012, с. 224–241.
. Сами пчелы, которые его производили, считались служебными животными богинь плодородия (они же, как правило, и хтонические божества). Мед, небесная пища богов, если доходил до людей, то вместе с даром пророчества и истинного знания, давал избавление от смерти и вечную молодость. Короче говоря, это был атрибут чуждых культов, в частности – культа мертвых. Отделаться от него совсем было не просто, но сам запрет на жертвоприношение выдает подспудную борьбу.
Здесь, может быть, стоит упомянуть любопытную подробность: библейский автор для обозначения меда предпочитает использовать не слово более древнего западно-семитского корня npt (в Угарите nbt), а слово деваш, родственное арабскому и арамейскому обозначению сиропа из фиников [41] В случае арамейского это слово обозначает как пчелиный мед, так и фруктовый сироп (см. BDB, р. 185).
. Еврейское слово «нофет» остается редкой поэтической параллелью к слову деваш, которое, судя по его контекстному использованию, может означать как «пчелиный мед», так и «фруктовый сироп»; последний действительно склонен к брожению. На самом деле, из большого числа библейских контекстов, в которых присутствует слово деваш, только в одном его можно однозначно связать с пчелиным медом – это случай загадки Самсона (Суд 14:8.9); во всех остальных сюжетах абсолютной однозначности нет: речь может идти как собственно о меде, так и о финиковом сиропе [42] См. A. Caquot, «Devash, W37» (Art), in: Theological Dictionary of the Old Testament / Ed. by G. J. Botterweck, H. Ringgren, Grand Rapids, Mich., USA, 1988, vol. 8, pp. 128-131.
.
Таким образом, можно думать, что в случае меда в библейском культе специально, на полемической основе, происходит разделение еды и жертвы – с целью отмежеваться от неяхвистских культов.
Прямо противоположная ситуация наблюдается с кровью . Ее нельзя есть никогда и ни под каким видом – именно потому, что это доля Бога в жертвоприношении (Лев 7:22–27, 17:5–7.11). Мотивация запрета формулируется в терминах тождества крови и жизни , и соответственно – власти Бога над жизнью вообще (Лев 17:14). Однако вместе с тем, тот, кто ест мясо с кровью, не только покушается на долю Бога в жертвенной трапезе, но и подпадает под подозрение в смысле участия в чуждых культах. Алиби заключается в том, чтобы жертвенное животное было обязательно приведено к скинии (а на самом деле, подразумевается Храм) – и заклано в соответствии с правилами яхвистского культа (Втор 12:13; Лев 17:1–9). Но что делать человеку, который хочет поесть мяса (а мясная трапеза в принципе жертвенная), но он находится вдали от Храма? Согласно предписанию (Втор 12:15–16), животное можно зарезать в любом месте, но кровь при этом надо непременно слить на землю [43] До сих пор в иудаизме непременным условием кашрутного мяса служит гарантия отсутствия в нем крови; для этого животное должно быть зарезано специальным образом.
. Тем самым Господу отдана Его доля, а фигурант демонстрирует неучастие в чуждых обрядах, использующих кровь жертвы.
Что можно сказать о таких обрядах? МакКарти [44] D. J. MacCarthy, «The Symbolism of Blood and Sacrifice», in: Journal of the Biblical Literature, 1969, vol. 88, pp. 166–176.
показал, что ритуальное использование крови было вообще отличительной чертой библейского культа; у хеттов, вавилонян, финикийцев, греков и других народов данного региона кровь использовалась только в культе мертвых. Такой ритуал описан, например, у Гомера ( Одиссея , 11). Герою поэмы необходимо поговорить с духом прорицателя Тиресия. Добравшись до входа в Аид, Одиссей роет мечом яму в земле и льет туда – сначала мед, вино и воду , а затем, засыпав в яму ячменную муку , заколает над ямой животных и сливает туда их кровь . Только напившись жертвенной крови, дух может найти в себе силы подняться из земли и общаться с живым человеком.
Здесь можно отметить, что библейское предписание сливать кровь убитого животного на землю, с одной стороны, напоминает ее использование в культе мертвых; но с другой стороны, этот обычай явно переосмысляется и присвояется яхвистскому культу; такого рода полемические переосмысления вообще очень характерны для библейского текста.
Что касается собственно культа мертвых, включающего в себя жертвенные приношения предкам, то он, без сомнения, в древнем Израиле существовал [45] См., напр.: С. В. Тищенко, « Книга договора (Исх 20:22–23:19) и культ предков», в: Библия: литературные и лингвистические исследования , 4 (2001), c. 152–175; M. S. Bloch-Smith, «The Cult of the Dead in Judah: Interpreting the Material Remains», in: Journal of the Biblical Literature , 111, 1992, pp. 213–224; K. Toorn, van der, Family Religion in Babilonia, Syria, and Israel: Continuity and Change in the Forms of Religious Life, Leiden, 1996, pp. 206–235.
и вызывал большое негодование пророков и девтерономического редактора Библии [46] См. Иер 16:5–8; Иез 43:7–9; Втор 26:14; Пс 16/15:4.
; не случайно, видимо, осуждение ритуалов этого культа примыкает вплотную к пищевым запретам в книге Второзаконие (14:1–2), а в книге Левит (19:26–28) – к запрету употреблять в пищу кровь.
В этой связи интересен эпизод с так называемой Аэндорской волшебницей (1 Цар 28), которая вызвала царю Саулу дух пророка Самуила. Есть подозрение, что данный текст представляет собой девтерономическую переработку более древнего предания, в котором содержалось описание спиритического сеанса. Рудиментом этого предания осталось словосочетание элохим олим – так обозначены «поднимающиеся (из земли) духи», увиденные колдуньей. Слово элохим (согласованное с глаголом во множественном числе) относится здесь к обожествленным духам предков [47] См.: С. В. Тищенко, указ. соч ., с. 160; K. Toorn, van der, «God (I)», «Art», in: Dictionary of Deities and Demons in the Bible / Ed. by K. van der Toorn, B. Becking, P. W. van der Horst, Leiden, 1995, pp. 683f.
. В дальнейшей переработке «духи» превратились в дух одного Самуила.
Интервал:
Закладка: