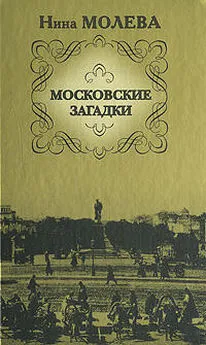Нина Молева - Московские тайны: дворцы, усадьбы, судьбы
- Название:Московские тайны: дворцы, усадьбы, судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алгоритм»
- Год:неизвестен
- ISBN:5-699-18489-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Молева - Московские тайны: дворцы, усадьбы, судьбы краткое содержание
Известный искусствовед, историк, писатель Нина Молева в своей книге, основываясь на архивных находках, увлекательно рассказывает о неизвестных страницах истории Москвы.
Московские тайны: дворцы, усадьбы, судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Иностранцы не переставали удивляться. В России по сравнению с любой европейской страной «легче достать плодов, нежели в другом месте, каковы, например, яблоки, сливы, вишни, крыжовник, смородина, дыни, морковь, петрушка, хрен, редька, тыква, огурцы, серая и белая капуста, лук, чеснок…».
А знала русская столица три вида садов. Первый располагался прямо во дворе и зависел от его размера. Двор тяглеца Барашской слободы, неподалеку от Покровских ворот, Ивана Воронова имел, например, «яблонь и груш 37 деревьев». Двор другого бараша, Василия Мордвинова, – «три яблони и груша». Характерный расчет представлял двор певчего дьяка Ивана Новгородца на Поварской улице – «24 дерева яблоней, 2 груши да смородина красная» на площадке примерно 1500 кв. метров. Во дворе гостиной сотни Еремея Цынбальникова имелся огород, а в огороде сад – яблони и груши, вишни, малина, смородина трех сортов.
Особенностью московского городского сада было обязательное сочетание яблонь и груш. Сортов москвичи знали множество. Ягодники были представлены клубницей, черносливом, крыжовником, смородиной красной, черной и белой, барбарисом, сереборинником – шиповником красным и белым, малиной и вишней. Большие урожаи вишни и малины позволяли продавать их на рынках. Между тем кузов малины ценился очень высоко – 11 алтын.
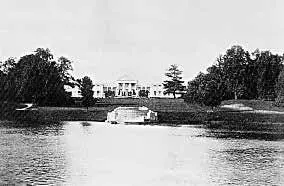
Кузьминки. Большой дворец. Начало XX в.
Второй вид садов в Москве представляли «верхние», или «висячие», «уряжавшиеся» на кровлях каменных строений и даже церквей. В Московском Кремле самыми большими оставались верхний и нижний набережные сады, спускавшиеся с вершины к подножию Боровицкого холма со стороны Москвы-реки. Меньшими размерами отличался сад, разбитый к востоку от алтаря домовой церкви Петра и Павла, на кровле подклета.
Принцип организации «висячих» садов сводился к тому, что кровля здания покрывалась спаянными между собой свинцовыми досками, края которых загибались вверх на высоту до 90 сантиметров. Образовывавшаяся емкость заполнялась составленной по особому рецепту землей. Высаживались в эту землю грецкие орехи, плодоносившие в условиях Москвы, персиковые деревья, барбарис, сереборинник, яблони и груши. Деревья настолько хорошо приживались, что даже после того, как Набережный дворец был давно заброшен и уход за садами прекращен, в них продолжали плодоносить в 1737 году, при императрице Анне Иоанновне, 24 яблони и 8 груш.
Вода в «висячие» сады доставлялась водопроводной системой, позволявшей наполнять и небольшие пруды с зеркалом до 200 кв. метров. На одном из таких кремлевских прудов и совершал свои первые поездки под парусом в игрушечных суденышках Петр I.
Что касается третьего вида садов – в вотчинах и поместьях, то разводились они далеко не всегда, хотя плодовые деревья и ягодники придавали владениям особую ценность. На учете было каждое плодовое дерево, если оно росло на крестьянской или церковной земле. Возраставшая с течением времени потребность в садах удовлетворялась выделением земель в Москве под загородные дворы, обычно используемые для разведения плодовых деревьев и ягодников. В 1648 году устанавливается единая мера на них: боярам – около двух гектаров, окольничим – около полутора, думным дьякам – 8 тысяч кв. метров, стольникам – 3600, стряпчим и московским дворянам – около двух тысяч квадратных метров и подьячим – около семи соток. В пределах Земляного города надел сокращался вдвое.
Стремление к расширению садов во второй половине столетия совмещается со стремлением к расширению круга общеупотребительных культур. Несмотря на неудачи отдельных опытов, упорно повторяются посадки кипарисов, пихты. Удается получать урожаи кедровых орехов, благодаря специальным мерам утепления – орехов грецких и «цареградских». Хорошо приживаются тутовые деревья. Москва и ближайшее Подмосковье насчитывают к тому же времени многие тысячи корней взрослых деревьев, не считая повсеместно заложенных питомников с саженцами. В селе Пахрине, например, опись отмечает «позади овечья двора тутовый сад, а на нем 5000 древ да 4 гряды больших, на них посеяно тутового дерева семени».
Цветочным садам отводилось значительно меньше места, хотя все иностранцы отмечают, как любят русские цветы и с каким удовольствием получают в подарок букеты. Тем не менее Москва хорошо знала пионы махровые и семенные, коруны, тюльпаны, лилии белые и желтые, нарчицу белую, рожи алые, девичью красоту, руту, махровые фиалки, гвоздику душистую и много других. В летнее время в богатых садах развешивались клетки с попугаями, соловьями, рокетками и канарейками. Любимой же птицей неизменно оставалась перепелка, которую держали в красивых ценинных – фаянсовых клетках.
Проложенные среди цветников, гряд и клумб дорожки для прогулок вели к расписным узорчатым «чердакам» или террасам, стоявшим на перекрестках и по углам сада резным и затейливо расписанным беседкам. И чисто московская подробность: почти во всех садах дорожки засевались травой барщ, которая использовалась в пищу наравне с капустой. Из нее варили щи, ее же квасили впрок, на зиму.
И как здесь не обратиться к цифрам. По переписи 1702 года только в одной Москве двору принадлежало 52 сада, не считая набережных берсеневских садов. Росло в тех садах 46 694 яблони, 1565 груш, 42 сливы-дули, 9136 вишен, 17 кустов винограда, 582 сливы, 15 гряд клубницы, 7 деревьев грецкого ореха, кипарис, 23 дерева чернослива и 3 куста терна. Причем Петр I садами не занимался и средств на них не тратил. Все это были остатки XVII столетия.
Но еще при царевне Софье, старшей сводной сестре Петра I, начинает складываться традиция приема в садах гостей, устройства садовых праздников, сначала только для приглашенных, но вскоре и для всех желающих. Иностранные дипломаты сообщают об этой своеобразной московской «Форме тщеславия». Фаворит царевны князь В. В. Голицын одним из первых так поступает в отношении доставшегося ему Медведкова, где существовал большой «огород» – сад с плодовыми деревьями, ягодниками и прудом с запущенной в него рыбой, «саженой», как тогда говорилось. Это были осетры, стерляди, щуки, судаки, окуни, плотицы и лини.
Получивший в подарок от Петра I за переход в русскую службу будущее Царицыно правитель Молдавии Дмитрий Константинович Кантемир (правильно – Хан-Темир, прямой потомок Тамерлана) устраивает в нем целую сеть естественных и искусственных прудов на речке Городенке, вокруг своего совершенно необычного дома. По словам современника, «дом построен на китайский манер, с отлогими крышами на два ската, с галереями, по которым можно ходить перед окнами вокруг всего дома, и со многими маленькими башнями, со всех сторон открытыми и обтянутыми только парусиною для свежести воздуха и защиты от солнца. Он весь деревянный, но так раскрашен и стоит на высоком месте, что издали кажется великолепным…». И хозяин радуется, когда устраиваемые им праздники и угощения привлекают толпы местных жителей и москвичей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: