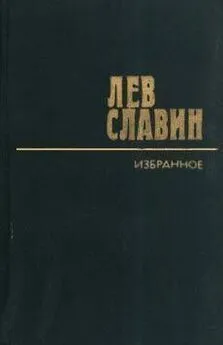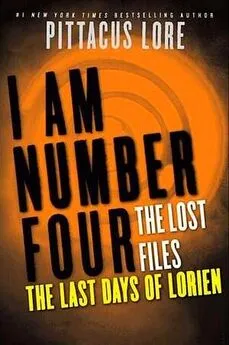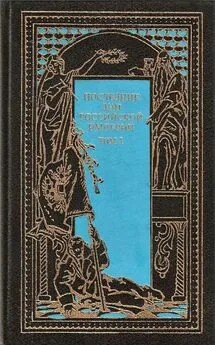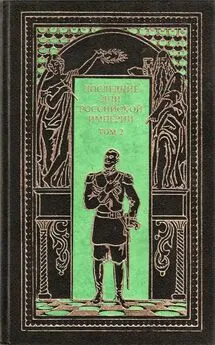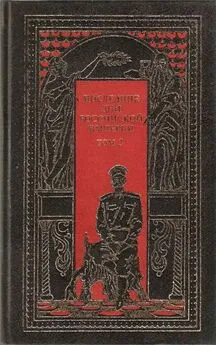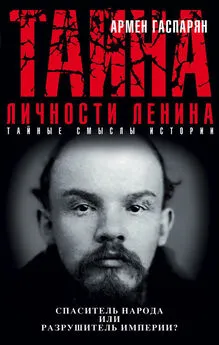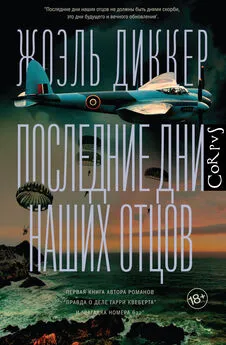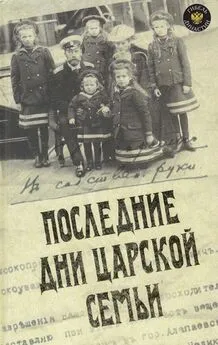Дэвид Ремник - Могила Ленина. Последние дни советской империи
- Название:Могила Ленина. Последние дни советской империи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Corpus
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-097473-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Ремник - Могила Ленина. Последние дни советской империи краткое содержание
В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий – консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.
Могила Ленина. Последние дни советской империи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На что шатровский Ленин восклицает: “Браво, Роза!”
Это поразительный момент. Шатров сценически оформил новую, санкционированную, горбачевскую версию истории. Ах, если бы Ленин не умер! Всеобщая толерантность, светлое будущее! С исторической точки зрения это, конечно, была полная ахинея. Хотя пророчество Люксембург сбылось во всех деталях, Ленин, пропагандирующий большевистский Билль о правах, – это чистая фантазия. Ленин разработал концепцию государственного террора. В январе 1918 года он приказал матросам Балтийского флота разогнать законно избранное Учредительное собрание (на многопартийных выборах большевики проиграли). В 1921 году Ленин уничтожил официальную оппозицию – даже внутри Коммунистической партии. Но все это были только факты, детали. Какое они имели значение? Интерпретация истории всегда была в СССР делом политическим, и Шатров с Горбачевым могли позволить себе искажать факты, раз мораль в пьесе была полезной. Цель, в конце концов, была благородная: дискредитировать Сталина и сталинизм. Другие вопросы могли подождать.
Шатров, человек одного поколения с Горбачевым, не просто симпатизировал идее социалистической “альтернативы” – он был с нею родственно связан. В 1937 году, когда будущему драматургу было пять лет, его дядю Алексея Рыкова, бывшего председателя Совета народных комиссаров, арестовали. Рыкова приговорили к смерти вместе с Бухариным. Отца Шатрова также арестовали и расстреляли. Через 12 лет и его мать посадили в тюрьму – как жену “врага народа”. Шатров, сын и племянник репрессированных большевиков, учился не в престижном университете, а в Горном институте. Писать он начал, преследуя определенную политическую цель. Имея под рукой такой мощный инструмент, как ритуальная драма о Ленине, он понемногу расшатывал границы, вводил в текст намеки, реабилитировал по своему усмотрению одних и обвинял других. Подобно поэту Евгению Евтушенко, Шатров был тщеславен и иногда громко похвалялся своей дерзостью; как и Евтушенко, он пользовался привилегиями и покровительством партийных бонз. Шатров жил в огромной квартире в знаменитом Доме на набережной, который некогда был цитаделью партийной элиты. Его квартира была обставлена антикварной мебелью. Он был соседом Пастернака в Переделкине – подмосковном дачном поселке, где летом и на выходных отдыхала культурная элита. Но, несмотря на все шатровские привилегии, серые аппаратчики его презирали. Писал он топорно, мыслителем был невыдающимся; по сравнению с ним Нил Саймон [32] Нил Саймон (р. 1927) – американский драматург и сценарист.
– Еврипид. Зато Шатров оказался настолько политически искусен, что составил себе репутацию драматурга, пишущего смелые пьесы!
8 января на встрече руководителей партии с главными редакторами газет главред “Правды” Виктор Афанасьев критически отозвался о пьесе Шатрова, доложив Горбачеву, что ее текст изобилует “неточностями”, которые “очерняют” советскую историю. Как и большинство членов ЦК, Афанасьев был реликтом брежневской эры, сам называл себя философом-марксистом и имел аристократическое хобби: водные лыжи. Он не был редактором в западном смысле этого слова. Как глава партийного органа Афанасьев был чрезвычайно влиятельной фигурой в коммунистической иерархии, входил в состав ЦК и часто присутствовал на заседаниях политбюро. “Разумеется, я там не голосую”, – говорил он мне. Но на столе у него стоял телефон кремового цвета, связывавший его с абонентом номер один. На аппарате не было ни кнопок, ни наборного диска. Только надпись: “Горбачев”. “Я просто поднимаю трубку, и меня соединяют”, – пояснял он.
В данном случае Горбачев явно держался другого мнения, чем Афанасьев. Однако через два дня после встречи с партруководством в “Правде” вышла разгромная статья о Шатрове. Драматурга обвиняли в “неточностях” и непозволительных “передержках”.
1 февраля в отдел писем “Советской России”, еще одной партийной газеты, отличавшейся особым консерватизмом, поступило письмо читательницы – ленинградской преподавательницы химии, члена партии с двадцатилетним стажем Нины Андреевой. Андреева соглашалась с отрицательной рецензией на пьесу Шатрова, опубликованной в той же “Советской России”, и добавляла, что в Советском Союзе и за рубежом формируется “тенденция фальсифицирования истории социализма”. Андреева писала, что, судя по пьесе, автор поступился “марксистско-ленинскими принципами” и игнорирует “объективные законы истории”, “руководящую роль партии, рабочего класса в социалистическом строительстве”.
В первых числах марта главный редактор “Советской России” Валентин Чикин пришел в кабинет своего сотрудника Владимира Денисова со стопкой листочков. Денисов был редактором отдела науки, но недавно его перебросили на идеологию. У него были связи. Он много лет проработал в Томске, когда первым секретарем Томского обкома был Егор Лигачев.
“Прочтите, – сказал Чикин и дал Денисову фотокопию письма Андреевой. – И скажите свое мнение”.
Денисов знал, что Чикин, конечно, уже принял решение. Чикин был не из тех людей, кого волнует мнение подчиненных.
Письмо начиналось с резкой критики Шатрова. В этом, в общем, ничего особенного не было. “Советская Россия”, выражавшая настроения самых консервативных коммунистов, после публикации “Дальше… дальше… дальше!” в “Знамени” получала много таких писем. Но тут, как вспоминает Денисов, Чикин решил объяснить подоплеку. Он рассказал Денисову, что пересылает такие письма Лигачеву, в идеологический отдел ЦК. По словам Чикина, Лигачев позвонил ему по защищенной кремлевской линии связи – по “вертушке” – и спросил: “Валентин, что ты собираешься делать с этим письмом? Его нужно напечатать в газете!”
Позднее Лигачев свое участие отрицал. Несколько лет спустя он устроил целое представление, рассказывая о своей роли в “истории Нины Андреевой”. Неизменно говоря о себе в третьем лице, Лигачев отпирался, как вор, пойманный с поличным. “Я готов отвечать на все вопросы, – сказал он мне. – Во-первых, что касается публикации этой статьи, Лигачев здесь ни при чем. Лигачев, как и все читатели, узнал о статье Нины Андреевой из газеты «Советская Россия»”.
Но, если верить Денисову, на самом деле Лигачев не только “посоветовал” Чикину напечатать статью, но и вернул ему текст со своими замечаниями, подчеркнув несколько фраз.
Однако текст следовало отредактировать, отточить, расширить. Чикин командировал Денисова в Ленинград, чтобы найти Андрееву и вместе поработать над письмом. 8 марта Денисов позвонил Андреевой и предложил встретиться на следующий день. Она назначила встречу на площади перед институтом, где преподавала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: