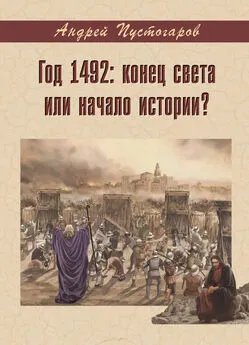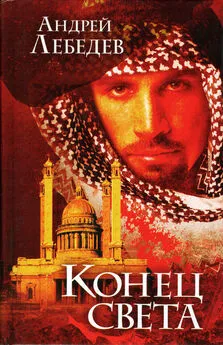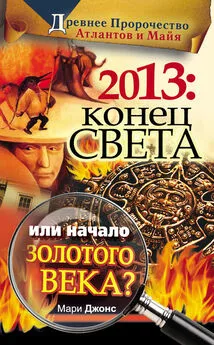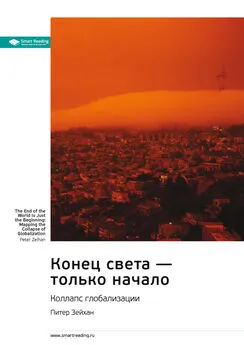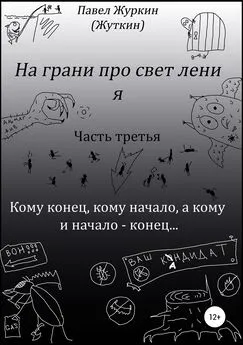Андрей Пустогаров - Год 1492-й: конец света или начало истории?
- Название:Год 1492-й: конец света или начало истории?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Э.РА
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-99062-237-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Пустогаров - Год 1492-й: конец света или начало истории? краткое содержание
Выводы оказываются достаточно неожиданными. Священные книги человечества Ветхий Завет и Коран повествуют о событиях, сотрясавших Европу в 15–16 вв. нашей эры. Т. н. процесс Реформации – это переход от доминирования глобальной торгово-промышленной сети к абсолютистским монархиям.
Год 1492-й: конец света или начало истории? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А вот когда производство зерна становится важнейшей экспортной статьей государства, тогда и возникает необходимость привязать земледельца к пахотному наделу и хозяину-барину.
2. Соборное Уложение или «всех взяти в тягло бесповоротно»
Заглянем в Соборное уложение – свод законов Русского государства, принятый в 1649 году.
(Кстати, в 7-й его главе мы прочтем: «С Польским и с Литовским и с Немецким и с иными окрестными государствы у государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии вечный мир и докончание». Кто бы сомневался, что именно с этими названными государствами, вторгшимися в Смутное время в Россию).
Из главы 9 «Суд о крестьянех» мы узнаем, что около 1625 (7134) года «крестьяне и бобыли» были расписаны по владельцам «по писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной приказ отдали после московского пожару прошлого 134-го году». В Уложении отсутствуют упоминания о свободных крестьянах. Все они либо «записаны» за владельцем – за государем, за вотчиной или поместьем – и пребывают у владельца согласно этой записи, либо являются беглыми, то есть место их проживания не соответствует записи Поместного приказа. В таком случае они должны быть возвращены «правильному» владельцу: «А кому доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду и по сыску отдать, и тех крестьян отдавати з женами и з детми и со всеми их животы, и с хлебом стоячим и с молоченым».
«А отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людем без урочных лет» – то есть без истечения срока данности, причем подлежали возвращению хозяину не только сами беглые, но даже их находящихся у «неправильного» владельца взрослые дети – принадлежность хозяину переходила и на детей. При этом до Уложения 1649 года существовала и возможность перехода к другому владельцу, и срок давности, после которого крестьянин переставал считаться беглым: «по нынешней государев указ (до него – А. П.) государевы заповеди не было, что ни кому за себя крестьян не приимати, а указаны были беглым крестьяном урочныя годы».
То есть Перепись 1625 года была началом закрепощения крестьян, а к 1649 году этот процесс завершился. Для сравнения заметим, что в 20 веке Советская власть провела коллективизацию крестьян в еще более короткие сроки.
Закрепощались не только крестьяне, но и население слобод, то есть поселений, не облагавшихся до этого податями и повинностями: «Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи и владычни и монастырския и бояр и околничих и думных и ближних и всяких чинов людей, а в тех слободах живут торговые и ремесленые люди и всякими торговыми промыслы промышляют и лавками владеют, а государевых податей не платят и служеб не служат, и те все слободы со всеми людми, которые в тех слободах живут, всех взяти за государя в тягло и в службы безлетно и бесповоротно». (Тягло – это система натуральных и денежных повинностей, считавшаяся более тяжелой, чем оброк).
А еще население должно было содержать армию, которая и обеспечивала для населения существующий порядок: «А будет которые люди учнут ратным людем продавати людския и конския кормы дорогою ценою, и тем людем по суду и по сыску, по тому же наказание чинити, а лишнее взятое отдавати».
Не удивительно, что романовский 17 век получил у историков название Бунташного.
3. Становление новой государственности
Для общей характеристики «реформ» обратимся, к примеру, к учебному пособию «История Российской Государственности» (А. В. Воронин, М., 2004). «Если любой исторический период является в известном смысле переходной эпохой, поскольку в нем всегда что-то отмирает, а что-то рождается, то в отношении XVII в. это положение более чем справедливо: большинство исследователей сходятся на том, что в этот период число «рождений» и «отмираний» было большим, чем в какой-либо другой». То есть даже большим, чем в Петровскую эпоху. Это не удивительно – ничего такого, чего бы уже не было в 17 веке, Петр Первый в Россию не привнес. Оставляем читателю возможность при желании самому легко в этом убедиться, прочитав какой-нибудь обзор относительно западных заимствований в России 17 века.
«В отличие от предшествующих этапов развития Российского государства, когда большинство конфликтов происходило лишь в верхних эшелонах власти, в XVII на политическую сцену все активнее выходят социальные низы». Это значит, что изменения коснулись самих основ жизни населения России.
«Можно назвать такие крупнейшие столкновения масс с властью, как городские восстания 1648–1651, 1662 гг., выступление под предводительством С. Разина, или стрелецкие восстания конца XVI в. Все они, так или иначе, связаны со становлением новой государственности в России… эти изменения являются несомненным свидетельством укрепления власти российского монарха, все более превращающегося в действительно самодержавного владыку. Их отразило уже Соборное уложение 1649 г., в котором отчетливо прослеживается тенденция к правовому обеспечению неограниченности власти государя. Таким образом, к концу XVII в. в государственной системе России сложились все условия для окончательного оформления абсолютизма… Соборное Уложение 1649 г. юридически прикрепило крестьян к земле (как, впрочем, посадских людей – к посадам, а дворян и бояр – к службе), создав государственную систему крепостного права. Крепостническое давление со стороны государства испытывали, хотя и в разной степени, все сословия».
А. Воронин называет следующие бунты:
Соляной бунт (1648) – в связи с повышением налога на соль;
Восстания в Новгороде и Пскове (1650) – против отправки хлеба в Швецию в связи с угрозой голода в Пскове и Новгороде. «Государь об нас не радеет, деньгами подмогает и хлебом кормит немецкие земли» – приводит лозунг восставших С. М. Соловьев (История России с древнейших времен, т. 10, Царствование Алексея Михайловича, 1645–1676 гг.);
Медный бунт (1662) – против повышения налогов и роста цен в связи с введением медных денег;
Стрелецкое восстание Хованщина (1682) – среди требований: введение выборных представителей в Приказы, освобождение холопов, восстановление «старой веры» (Костомаров Н. История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Гл. 13. Царевна Софья).
Добавляют еще и Соловецкое сидение (1667–1676) – против введения «новой веры» и конфискации вотчин монастыря.
Внушительный перечень, однако весь так называемый русский раскол – это ответ на романовские «реформы», в первую очередь на закрепощение населения и отмену выборной системы власти.
Смехотворным выглядит сведение этого конфликта между властями и многомиллионными массами населения к бурной реакции последних на троеперстие вместо двуперстия и другие формальные элементы церковного богослужения. Это оскорбляет наших предков – приписывание им фанатичного, вплоть до самосожжений, отстаивания малосущественных с точки зрения даже самой христианской веры деталей ритуала. Да и позиция властей становится если и не более симпатичной, то, во всяком случае, более понятной – преследования раскольников связаны не с туманными и, прямо скажем, ложными ссылками на «восстановление древнего благочестия», а с подавлением протеста против крепостной системы и абсолютистской монархии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: