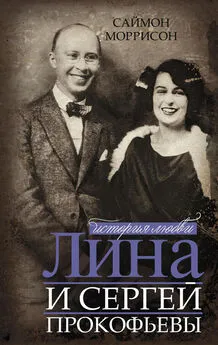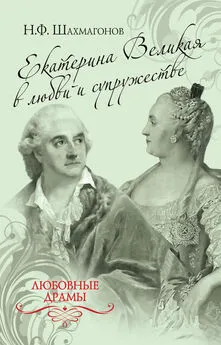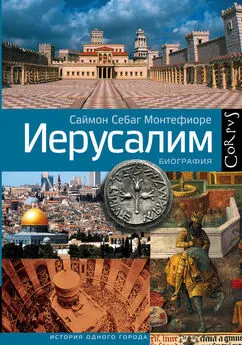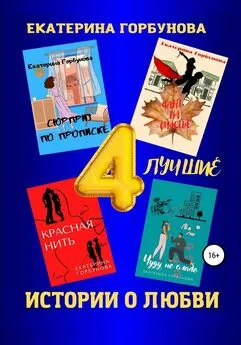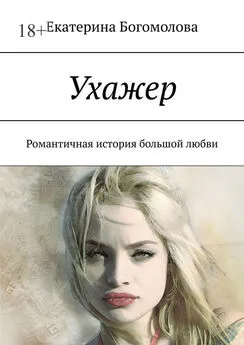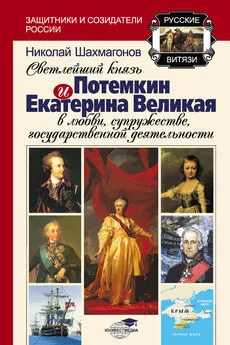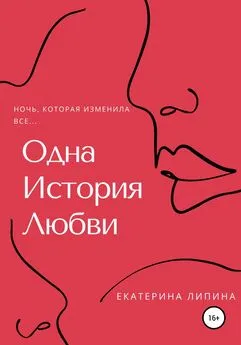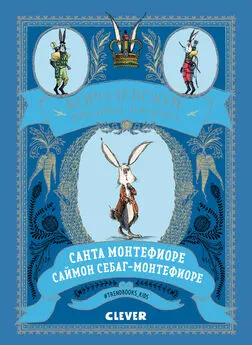Саймон Себаг-Монтефиоре - Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви
- Название:Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-982901-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Саймон Себаг-Монтефиоре - Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви краткое содержание
Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не прошло и нескольких недель, как на фронте вновь начались столкновения. Однако в отличие от прошлого года 1771 обернулся разочарованием, и военные действия на землях Молдавии и Валахии (нынешней Румынии), где и служил Потёмкин, не принесли побед. Когда турки благоразумно решили больше не сталкиваться с Румянцевым на поле боя, фельдмаршал предпринял серию набегов на турецкие позиции в низовьях Дуная, пробиваясь в Валахию. Потёмкин показал себя достойно: он получил задание удержать Крайовскую область и «не только что при многих случаях неприятеля ‹…› отразил, но нанося ему вящший удар, был первый, который в верхней части Дуная высадил войска на сопротивный берег онаго». Пятого мая он провёл небольшую операцию: на другом берегу Дуная атаковал городок Цимбры, разорил его, сжёг запасы провизии и захватил вражеские корабли, уведя их на русский берег реки. Семнадцатого мая Потёмкин разбил четырёхтысячное турецкое войско и погнал противника по реке Ольте – по словам Румянцева, это была великолепная и славная победа, которой русская армия обязана лишь потёмкинскому мастерству и отваге. Двадцать седьмого мая турки напали на его отряд, но Потёмкин отразил атаку и обратил их в бегство. Он вновь соединился с войсками Репнина, и десятого июня они совместными усилиями вынудили отступить большой турецкий корпус во главе с сераскиром (звание, в османской армии эквивалентное фельдмаршалу) и захватить Бухарест [36].
Вскоре после этого успеха Потёмкина подкосила серьёзная лихорадка, в летние месяцы широко распространенная в этих дунайских землях. Болезнь была такой тяжёлой, что «выздоровлению своему [он был] обязан своему крепкому сложению», так как «не соглашался принимать помощи от врачей», писал Самойлов. Вместо этого слёгший в постель генерал препоручил себя заботам двух запорожских казаков и велел им обрызгивать себя прохладной водой. Потёмкина всегда чрезвычайно занимали малые народности Российской империи – отсюда и должность при Уложенной комиссии, – однако этот эпизод даёт нам первый намёк на его особые отношения с казачеством. Он изучал казацкую культуру, восхищался их свободолюбием и умением радоваться жизни, а те называли его «Грицько Нечёса» или «серый парик» (из-за завитого парика, который он иногда носил) и предложили стать почётным членом казачьего войска. Несколько месяцев спустя, 15 апреля 1772 года, Потёмкин написал кошевому письмо с просьбой принять его в их ряды, а когда в мае того же года просьба была исполнена и его внесли в списки Запорожской Сечи, он вновь написал кошевому с искренней благодарностью [37]. Потёмкин выздоровел, а русская армия вскоре пересекла Дунай и двинулась к важнейшей для турок крепости Силистрии, контролировавшей устье Дуная. Именно здесь Потёмкин вызвал неугасимый гнев графа Семёна Романовича Воронцова, молодого наследника знатного рода, благоденствовавшего во времена Петра III. Семён Романович, сын провинциального губернатора и известного взяточника, прозванного «большим карманом», и племянник канцлера Петра III, родился в 1744 году и получил хорошее образование. Его как сторонника Петра арестовали во время екатерининского переворота, но позднее он прославился, став первым офицером, который ворвался в турецкие окопы при Кагуле. Как и все Воронцовы, этот англофил с пресным лицом пользовался определённым уважением за свои заслуги, однако и Екатерина, и Потёмкин справедливо считали его политически ненадёжным, и большая часть его деятельной жизни прошла в почётном изгнании – в Лондоне на посольской должности. Теперь, у Силистрии, он оказался в унизительном положении: его гренадёрский полк атаковали двенадцать тысяч турецких конников, и он был вынужден принять помощь от Потёмкина, который весьма неохотно оказал её.
Шесть дней спустя настала очередь Потёмкина просить Воронцова о помощи: «мы не только прикрыли его, но и загнали турок обратно в город» с помощью трёх артиллерийских батарей, и враг понёс большие потери. Воронцов пишет эти слова в 1796 году, полагая, что обе битвы свидетельствуют о его мастерстве и о некомпетентности Потёмкина. И того и другого невероятно раздражала необходимость принять помощь от соперника, и злоба была совершенно взаимной [38].
Силистрия не сдалась, армия вернулась за Дунай, и на этом неспешная кампания Румянцева завершилась. Зато на долю Второй армии под командованием князя Василия Долгорукого в июне выпало больше событий: вторжение во владения крымского хана увенчались успехом, поскольку войска ханства были заняты сражениями с Румянцевым на Дунае.
Екатерина начала понимать, что воинская слава достаётся не так быстро и легко, как она надеялась. Бездонное чрево армии требовало всё больше и больше рекрутов. Год был неурожайным. Солдатам не платили жалованье. В армии свирепствовала лихорадка, а на османских землях начались вспышки бубонной чумы. Русские опасались, что она может перекинуться на южные армии. Пришло время обсудить условия перемирия с турками, прежде чем они забудут о Чесме и Кагуле. Но вдруг в сентябре 1771 года из Москвы прибыли ужасные новости.
На старую столицу с пугающей силой обрушилась чума. В течение августа болезнь уносила по 400–500 человек в день. В короткий срок город охватили беспорядки. Знать бежала из Москвы, власти паниковали, губернатор покинул свой пост, и город превратился в сюрреалистический склеп, заполненный гниющими трупами, зловонными кострами с тлеющей плотью и слухами о чудесах, исцелениях и заговорах. По улицам полузаброшенной Москвы бродили толпы крестьян и городских работников, охваченных отчаянием и всё сильнее уповавших на чудодейственную икону [39].
Епископ Амвросий, последний из представителей власти, кто принимал хоть какие-то меры, приказал спрятать икону, чтобы уменьшить риск распространения инфекции среди людей, сгрудившихся вокруг реликвии в надежде пробудить её чудесные силы. Толпа взбунтовалась и растерзала епископа на части. Этот был тот самый Амвросий, который одолжил Потёмкину денег на поездку в Санкт-Петербург. И пока Россия изнемогала под гнётом огромных военных расходов, толпа взяла город в свои руки. Возникла нешуточная вероятность того, что чума послужит спусковым курком для дальнейших бед – крестьянских волнений в деревнях.
Число умерших от болезни всё возрастало. Григорий Орлов, не зная, в чём проявить себя в отсутствие поручений от Екатерины, решил отправиться в Москву и разобраться в происходящем. Двадцать первого сентября 1771 года он уехал. К моменту его прибытия в Москве ежемесячно погибали более двадцати одной тысячи горожан. Приехав, Орлов употребил в дело весь свой здравый смысл, компетентность, энергичность и человеколюбие. Он работал без устали. Его величественная фигура и лик с чертами херувима сами по себе служили для москвичей утешением. Он велел сжечь три тысячи старых домов, где могла гнездиться болезнь, ещё в шести тысячах домов провёл дезинфекцию, учредил несколько приютов, вновь открыл запертые на карантин городские бани и потратил более 95 000 рублей на пропитание и одежду неимущим. Благодаря его геркулесовскому подвигу порядок в этих авгиевых конюшнях был восстановлен. Когда 22 ноября он уехал, смертность уже уменьшалась – возможно, благодаря наступающим холодам, но так или иначе, государство вернуло себе контроль над Москвой. Четвертого декабря Орлов прибыл в Петербург и был всеми встречен с восторгом. Екатерина велела воздвигнуть в его честь арку в Царскосельском парке, где уже стояло множество памятников, отмечавших успехи императрицы. Она даже изготовила для него памятную медаль. Казалось, судьба Орловых, которых Вольтер называл героическим родом, в полной безопасности [40].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: