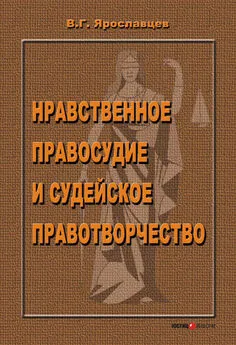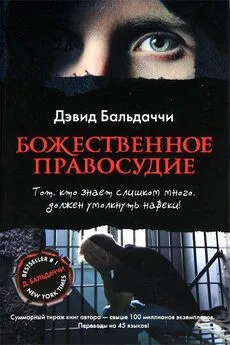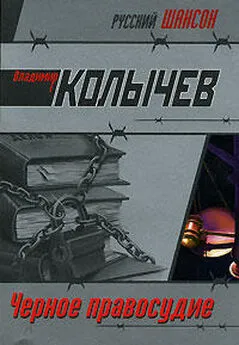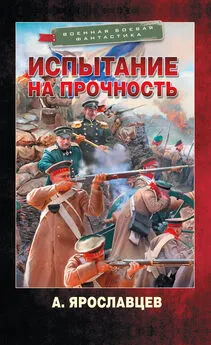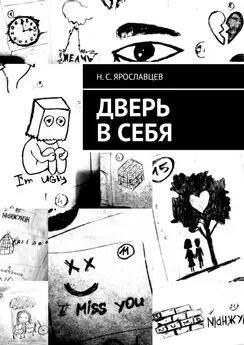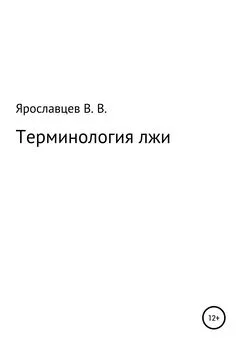Владимир Ярославцев - Нравственное правосудие и судейское правотворчество
- Название:Нравственное правосудие и судейское правотворчество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юстицинформ»
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-7205-0790-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ярославцев - Нравственное правосудие и судейское правотворчество краткое содержание
Автор, опираясь на свой многолетний опыт судьи, полагает, что судья не является простым правоприменителем, «говорящим законом», а представляет собой творческую личность, которая в процессе отправления правосудия «творит право» при рассмотрении конкретного дела, то есть осуществляет правотворчество. Во все времена и в любых странах, в разных системах права настоящий судья был, есть и всегда будет высоким профессионалом и носителем непреходящих нравственных ценностей.
Книга предназначена как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся проблемами права и правосудия.
Нравственное правосудие и судейское правотворчество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Закон – основная святыня всего античного мира, основной принцип дохристианской этики. Жизнь в законе, в праве и государстве для эллинов есть жизнь совершенная.
Лучше умереть, соблюдая закон, чем жить, нарушая закон, – такова тема Платонова «Критона»: к сидящему в темнице Сократу приходят законы и говорят: мы вскормили тебя и вспоили, мы дали тебе жизнь, отечество и все ценности, которыми ты жил; неужели ты можешь помыслить о том, чтобы нас попрать? («Вот обожание закона как живой святыни, апофеоз самой формы закона даже и тогда, когда она облекает собой несправедливость», – замечает по этому поводу Б.П. Вышеславцев).
Кир, спрошенный, кого он назовет несправедливым, отвечал: не применяющего закон. Солон, спрошенный, как наилучшим образом живут в государствах, отвечал: если граждане повинуются властям, а власти законам. Демосфен называл законы душой государства. Для рабов, утверждал Демадий, необходимость есть закон, а для свободных закон есть необходимость.
Платон определял как гармонию всех струн идеал государства, идеал законодательного совершенства, идеал справедливости. И для Аристотеля совершенное государство есть то государство, в котором властвует закон, и только в нем возможно жить человеку: «Вне государства или животные, или боги»; человеческое совершенство есть совершенство государства и совершенство законов. Тот же Б.П. Вышеславцев иронизирует: «Аристотель не подозревал, конечно, что христианство будет утверждать именно этот, им исключаемый, парадокс: «А я говорю вам: вы боги и сыны Всевышнего все». Поскольку мы «боги» и сыны Всевышнего, мы живем вне государства и вне закона. Царство благодати, сфера обожания сверхприродна, сверхзаконна, метаполитична» [80] Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 386, 387.
.
Идея законопослушания не осталась для эллинов сугубо абстрактно-теоретической, а была непосредственно воспринята ими. Подтверждением тому служит, например, текст присяги, которую приносили афиняне, когда по достижении совершеннолетия (18 лет) становились эфебами и как граждане вносились в списки демов:
«Я не посрамлю священного оружия и не покину товарища, с которым буду идти встрою, но буду защищать их рамы и святыни один и вместе со многими. Отечество оставлю после себя неумаленным, а большим и лучшим, чем сам его унаследовал. И я буду слушаться властей, постоянно существующих, и повиноваться установленным законам, а также и тем новым, которые установит согласно народ. И если кто-нибудь будет отменять законы или не повиноваться им, я не допущу этого, но буду защищать их и один и вместе со всеми. И я буду чтить отеческие святыни» [81] Аристотель. Политика. Афинская полития. М., 1997. С. 404.
.
Вместе с тем греческие мыслители, провозглашая культ закона (что, как мы помним, характерно и для Древнего Израиля), предъявляли к нему такое существенное требование, как справедливость. Если закон не окажется на пользу общения людей, говорит Эпикур, «он уже не имеет природы справедливости» [82] Эпикур. Главные мысли. В сб.: Материалисты Древней Греции. М., 1955. C. 217.
. По Аристотелю, «справедливость» – понятие относительное, это всегда общая мерка, которая для своего применения требует наличия каких-либо общих свойств у людей: в одних случаях ее предпосылкой является равенство людей по какому-нибудь признаку, в других – соизмеримость.
Поскольку все частные случаи невозможно уложить в прокрустово ложе одного и того же правила, наряду со справедливостью, выступающей в качестве общего правила, Аристотель выделяет особую форму справедливости частного случая, которую называет «правдой». Его «правда» – это «высшая ступень справедливости» [83] Аристотель. Указ. соч. С. 107.
. Отсюда вывод: справедливость может быть не только относительной, но и конкретной, но тогда возникает вопрос: для кого? Те, кто упускает из виду этот вопрос, судят дурно, поскольку судят о самих себе, «в суждении же о своих собственных делах едва ли не большинство людей плохие судьи» [84] Там же.
.
Данное рассуждение, завершающееся мыслью о том, что невозможно быть судьей в собственном деле, с неизбежностью приводит к выводу: только беспристрастный судья, т. е. тот, кто рассматривает дела других, может решить дело по «правде», иными словами, добиться справедливости.
Однако нет ли тут определенного противоречия: совершенное государство, совершенное законодательство – писаные законы, которые в обязательном порядке должны быть «опубликованы» на кирбах (деревянные выбеленные доски высотой приблизительно в рост человека, составленные в виде призмы, которая вращалась на оси для удобства чтения), и потребность в судье как беспристрастном арбитре? Ведь само совершенство, на первый взгляд, не нуждается в посреднике-судье для реализации «совершенных положений». Наиболее красноречиво передает это сомнение Сократ в беседе с Главконом:
«Когда в государстве распространяется распущенность и болезни, разве не потребуется во множестве открыть суды и больницы? И разве не будут в почете судебное дело и врачевание, когда ими усиленно станут заниматься даже многие благородные люди?
Да, выйдет так.
Какое же ты можешь привести еще большее доказательство плохого и постыдного воспитания граждан, если нужду во врачах и искусных судьях испытывают не только худшие люди и ремесленники, но даже и те, кто притязает на то, что они воспитаны на благородный лад? Разве, по-твоему, не позорна и не служит явным признаком невоспитанности необходимость пользоваться, за отсутствием собственных понятий о справедливости, постановлениями посторонних людей, словно они какие-то владыки и могут все решить?
Это величайший позор.
А не кажется ли тебе еще более позорным то обстоятельство, что человек не только проводит большую часть своей жизни в судах как ответчик либо как истец, но по своей невоспитанности еще и чванится этим в уверенности, что он горазд творить несправедливости, знает всякие уловки и также лазейки, чтобы увернуться от наказания, и все это ради мелких, ничего не стоящих дел? Ему неведомо, насколько прекраснее и лучше построить свою жизнь так, чтобы вовсе не нуждаться в клюющем носом судье.
Да, это еще более позорно» [85] Платон. Сочинения. Т. 3. М., 1968. С. 405а—405с; Он же. Филеб. Государство. Тимей. Критий. М., 1999. С. 172, 173.
.
Как бы поддерживая этот диалог, Аристотель усиливает противопоставление между совершенными законами и судьей:
«Хорошо составленные законы главным образом должны, насколько возможно, все определять сами и оставлять как можно меньше произволу судей… Законы составляются людьми на основании долговременных размышлений, судебные же приговоры произносятся на скорую руку, так что трудно людям, отправляющим правосудие, хорошо различать справедливое и полезное» [86] Цит. по: Русский адвокат. 1998. № 7–8. С. 62.
.
Интервал:
Закладка: