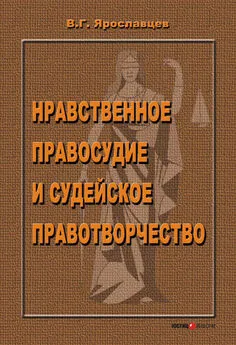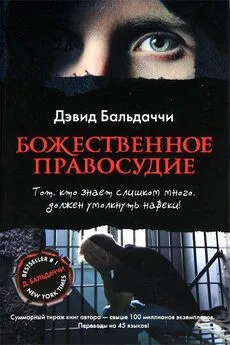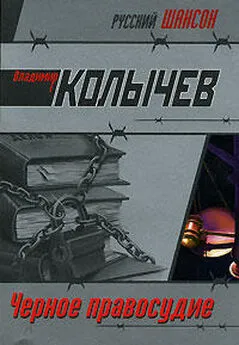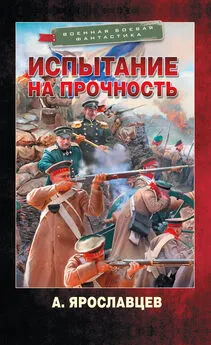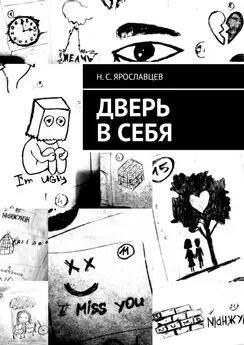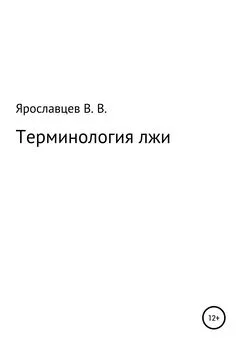Владимир Ярославцев - Нравственное правосудие и судейское правотворчество
- Название:Нравственное правосудие и судейское правотворчество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юстицинформ»
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-7205-0790-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ярославцев - Нравственное правосудие и судейское правотворчество краткое содержание
Автор, опираясь на свой многолетний опыт судьи, полагает, что судья не является простым правоприменителем, «говорящим законом», а представляет собой творческую личность, которая в процессе отправления правосудия «творит право» при рассмотрении конкретного дела, то есть осуществляет правотворчество. Во все времена и в любых странах, в разных системах права настоящий судья был, есть и всегда будет высоким профессионалом и носителем непреходящих нравственных ценностей.
Книга предназначена как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся проблемами права и правосудия.
Нравственное правосудие и судейское правотворчество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Древние мыслители постоянно подчеркивают главную мысль: судья, несущий творческое начало при отправлении правосудия, никогда не может быть бездумным исполнителем закона, его механическим придатком. Плутарх в трактате «О демоне Сократа» пишет: «Если бы кто сказал, что его ранило копье, а не посредством копья метнувший это копье человек; или что тот или иной вес измерен весами, а не сделавшим взвешивание человеком посредством весов? Ведь действие принадлежит не орудию, а человеку, который пользуется орудием для этого действия» [102] Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Трактаты и диалоги. М., 1998. С. 494.
. Применительно к нашей теме эту сентенцию можно перефразировать так: действие принадлежит не закону, а судье, который пользуется законом для этого действия.
Наглядным примером истинного служения правосудию является деятельность Сократа на посту члена Совета пятисот (высший государственный орган по вопросам управления). Как член Совета он был избран эпистатом (председателем) комиссии пританов, управлявших Афинами. Согласно закону должность эпистата человек занимал сутки, после чего сменялся другим пританом. В день, когда Сократ исполнял должность эпистата, было созвано Народное собрание, чтобы судить шестерых стратегов после морского сражения при Аргинузских островах (406 г до н. э.). Афиняне одержали блестящую победу в сражении, но буря помешала подобрать оставшихся на разбитых судах и похоронить погибших, за что Народное собрание призвало стратегов к ответу. Предложение главного обвинителя демагога Калликсена состояло в том, чтобы общим голосованием решить вопрос о вине всех стратегов и приговорить их к смерти одновременно, «огулом». Такой прием был противозаконным, поскольку явно нарушал известную псефизму Каннона, требовавшую, чтобы дело каждого обвиняемого разбиралось отдельно.
Вот как описывает этот случай сам Сократ, выступая на процессе, где он был уже, к сожалению, подсудимым:
«И пришла нашей филе Антиохиде очередь заседать в то время, когда вы желали судить огулом стратегов, которые не подобрали пострадавших в морском сражении, судить незаконно, как вы сами признали это впоследствии. Тогда я, единственный из пританов, восстал против нарушения закона, и в то время, когда ораторы готовы были обвинить меня и посадить в тюрьму, и вы сами этого требовали и кричали, вто время я думал, что мне скорее следует, несмотря на опасность, стоять на стороне закона и справедливости, нежели из страха перед тюрьмою или смертью быть заодно с вами, желающими несправедливого» [103] Платон. Сочинения. Т. I. С. 101.
.
Сократ говорит правду, и это подтверждает Ксенофонт в «Воспоминаниях о Сократе»: «Когда народу захотелось осудить на смертную казнь стратегов Фрасилла и Эрасинида с их коллегами, всех одним голосованием, вопреки закону, Сократ отказался поставить это предложение на голосование, несмотря на раздражение народа против него, несмотря на угрозы многих влиятельных лиц: соблюдение присяги он поставил выше, чем угождение народу вопреки справедливости и чем охрану себя от угроз» [104] Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. В сб.: Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств. С. 108.
.
Увы, через сутки Сократа сменил другой притан, который пошел на нарушение закона, и всех шестерых стратегов казнили.
По-видимому, судебный произвол не был в Афинах исключительным явлением: «Разве ты не знаешь афинских судов? – вопрошает Гермоген Сократа. – Часто судьи, раздраженные речью, выносят смертный приговор людям ни в чем не виновным; часто, напротив, оправдывают виновных, потому что они своими речами разжалобят их, или потому, что они говорят им приятные вещи» [105] Цит. по: Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств. С. 91.
. Наверное, действительно афиняне забыли слова Солона: «Вот тяжба меж двумя, и кто-то из судей друг одному из соперников, а кто-то, положим, враг. Но да не вмешается в приговор, согласно клятве данной, благоволение иль неприязненность, как и всякое недолговечное чувство человеческое» [106] Цит. по: Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств. С. 145.
.
Итак, нравственный аспект деятельности судьи, от которого в прямом и переносном смысле зависит жизнь другого человека, приобретает особое значение. Ориентир уже указан: это совесть, как присущая человеку изначально, и справедливость, которая находит выражение при решении конкретного дела в соответствии с законом. Правосудие должно быть нравственным. Именно нравственное правосудие исключает возможность судебного произвола. Нравственность не может носить относительный характер, ведь нельзя быть «немного нравственным» или руководствоваться «отложенной» нравственностью, поступая так или иначе в зависимости от обстоятельств или от мнения «власть предержащих».
«Нравственное действие, – пишет В.В. Соловьев, – становится таковым, лишь поскольку сознается как обязанность. Лишь через понятие обязанности нравственность перестает быть инстинктом и становится разумным убеждением… Нравственный закон как таковой, то есть как основание некоторой обязательности, должен иметь в себе абсолютную необходимость, то есть иметь значение безусловного для всех разумных существ» [107] Соловьев В.В. Указ. соч. С. 458.
.
Еще одной гарантией от судебного произвола является, как мы убедились на примере Древнего Израиля, отправление правосудия в надлежащих процессуальных формах.
В Афинах судебное заседание начиналось объявлением председательствующего об открытии судопроизводства частного, если слушались частные дела, причем в день обычно рассматривались четыре иска; если предстояло слушать дело государственного характера, объявлялось открытие государственного процесса и разбиралось только одно дело (например, на судебный процесс над Сократом был отведен целый день). Стороны приносили присягу говорить по существу, а затем выступали с речами, причем обвинителю и подсудимому полагалось по две речи. В зале заседания стояли клепсидры: снабженные трубками и сточными отверстиями сосуды, по уровню воды в которых определяли истекшее время. Так измерялась длительность произносимых на суде речей. Лицо, представленное по жребию к воде, перекрывало трубку, когда секретарю предстояло читать закон, свидетельские показания или контракт. В случаях особой важности процесса, когда обвиняемому грозили заключение в тюрьму, изгнание, лишение гражданской чести, смертная казнь или конфискация имущества, точно определялось время наиболее ответственных процедур оглашения обвинения, голосования судей и т. д. Также поступали и в случаях, когда из закона однозначно не вытекало, какому наказанию или штрафу должен подвергнуться виновный.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: