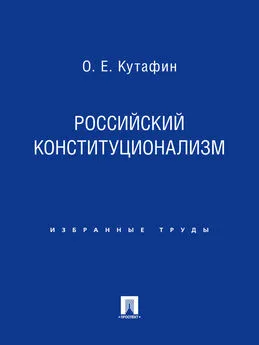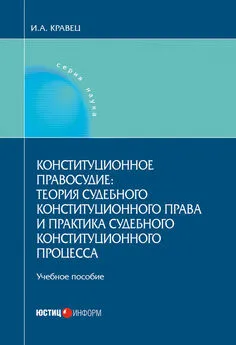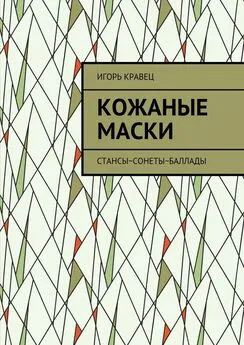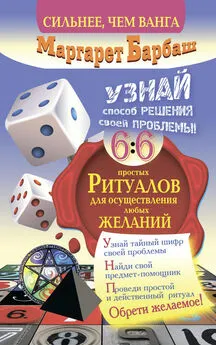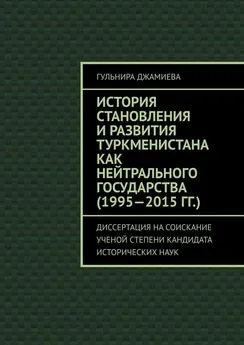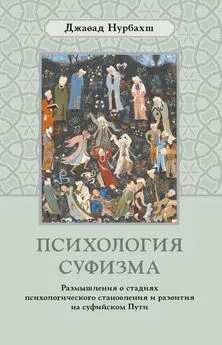Игорь Кравец - Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления
- Название:Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»
- Год:2004
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-94201-425-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кравец - Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления краткое содержание
Особое внимание уделяется понятию и способам конституционализации правового порядка в России, вопросам прямого действия конституции, формированию конституционно-правовой ответственности, теории и практике конституционных поправок. Судебный срез конституционализма проявляется в анализе правовой природы конституционной герменевтики, официального толкования Российской Конституции, осуществления судебного конституционного контроля и разрешения споров о компетенции.
Для юристов, политологов, студентов, аспирантов и преподавателей вузов, работников органов государственной власти и местного самоуправления, а также для широкой читательской аудитории.
Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Осмысление современных проблем развития и утверждения российского конституционализма требует выяснения роли идеалов и мифов в способе постановки и разрешения конституционного вопроса в России в ХХ веке. При этом следует различать «подлинные» и «неподлинные» формы мифа, о которых писали такие исследователи, как М. Элиаде и К. Керени [140] Eliade M. Myth and Reality. New York, 1963; Kerenyi K . Wesen und Gegenwдrtigkeit des Mythos // Die Erцffnung des Zugangs zum Mythos. Darmstadt, 1967.
. «Неподлинные» формы мифа являются ненастоящими формами, потому что они не могут быть рассмотрены как «прафеномены», которые спонтанно возникли или исторически передавались из поколения в поколение. Они сознательно были созданы для достижения политических целей. В сфере политики «неподлинные» формы мифа как имеющие рукотворный характер приобретают форму политических псевдомифов, которые хотя и могут иметь некоторые мифические структуры, сознательно формируются и поддерживаются определенными политическими силами для внедрения в общественное сознание в образе желательного или негативного способа разрешения конституционного вопроса в России.
Выражая кратко соотношение подлинного мифа и псевдомифа, можно сказать, что подлинный миф всегда реален, основан на реальном положении вещей, на реальном феномене общественной или государственной жизни. В то время как псевдомиф не имеет подлинных корней в историческом развитии общества и государства или тесным образом не связан с процессом реального функционирования политических и правовых институтов. Тем не менее «неподлинный» миф все же имеет отношение к политической или правовой реальности, так как может использоваться политическими демагогами для мобилизации верований, чувств и инстинктов масс [141] Исследуя отношение псевдомифов к подлинным мифам, на это указывает К. Хюбнер. – Хюбнер К . Истина мифа / Пер. с нем. – М., 1996. – С. 338–341.
.
Взаимосвязь мифа и идеала в российском конституционализме можно рассматривать с учетом деления конституционных идеалов на два вида. Такое деление основано на двух различных типах взаимоотношений конституционного идеала и политико-правовой реальности, в которой функционируют подлежащие преобразованию или кардинальной смене конституционные нормы и институты. Первый тип взаимоотношений предполагает формирование конституционного идеала, исходя из уже существующего исторического и государственно-правового опыта развития страны. Реализация такого идеала конституционализма рассматривается как политическая программа постепенной, поэтапной социальной инженерии (К. Поппер) [142] О роли социальной инженерии см.: Поппер К . Открытое общество и его враги. – М., 1992. – Т. 1. – С. 53–57.
, включающая в себя процесс частичного и долговременного совершенствования конституционно-правовых и политических институтов и сопутствующих им политического и правового сознания. Следовательно, при таком типе взаимоотношений конституционный идеал не является вовсе оторванным, отстраненным от политико-правовых реалий. Скорее, его можно назвать идеалом среднего уровня, и он становится ближайшей целью конституционного развития, определяя запрос на юридические процедуры (законодательного процесса или механизма внесения конституционных поправок) преобразования конституционных учреждений. Второй тип взаимоотношений устанавливается между предельно абстрактным и непомерно высоким идеалом конституционализма и чрезвычайно далекой от него политической реальностью. Такая взаимосвязь достаточно хрупка и в общественной практике чревата социальным взрывом или экстраординарными социальными действиями в случае утраты доверия масс и элиты к функционирующим политическим и правовым институтам. Конституционный идеал в этом случае имеет преимущественно заимствованное, а не автохтонное происхождение и определяется, как правило, абстрактными принципами справедливого общественного и государственного устройства, которые не питаются историческими корнями и традициями развития отечественной государственности. Вследствие такой удаленности идеала от реальности становится проблематичной выработка конкретных шагов-мероприятий по установлению подлинной демократической и конституционной государственности. В этом смысле весьма показателен идеал социал-демократического течения в России в начале ХХ века, заключавшийся в требовании перейти от «самодержавия монарха» к «самодержавию народа» без опосредующих государственно-правовых форм известных к тому времени европейской цивилизации. Предельная удаленность конституционного идеала от политической действительности приводит к актуализации наиболее радикальных, революционных способов преобразования реальности, когда политическими деятелями выдвигается задача не совершенствования, а слома политико-правовой системы или социального устройства в целом. Следовательно, второй тип идеала конституционализма выстраивается как весьма отдаленная политическая перспектива. Он должен поддерживаться в общественном сознании целой системой политических и правовых псевдомифов, призванных камуфлировать реальный порядок господства и осуществления политической власти. В условиях авторитарного режима политические псевдомифы становятся неотъемлемой частью конституционного идеала (какими являлись, например, в Советском государстве концепция социалистической демократии или положение о верховенстве советов в государственном механизме) и идеологическим прикрытием авторитаризма для внутреннего и внешнего потребления.
Особое значение в разрешении конституционного вопроса в России на протяжении ХХ века имело формирование и воздействие на различные политические течения (как социал-демократической, так и либеральной направленности) доктрины учредительной власти, или Учредительного собрания, и доктрины парламентаризма. Эти два конституционных идеала, берущие свои корни в Великой Французской революции и английской парламентской системе, во многом предопределили содержание политических программ левых либералов, а отчасти правых либералов и социал-демократов в начале ХХ века, а также в значительной степени определяют дискуссии вокруг способа и путей конституционного развития России в предстоящем тысячелетии.
Попытки реализовать идеал Учредительного собрания в российском политическом процессе на протяжении нынешнего столетия не имели успешного завершения. Этот идеал сформировался и стал активно воздействовать на общественное сознание масс в период первой русской революции 1905–1907 годов и преобразований государственного строя абсолютной монархии. Он рассматривался левыми либералами и социал-демократами как демократическая альтернатива октроированному способу введения конституции, который реально был использован для принятия новой редакции Основных государственных законов 23 апреля 1906 года. Под воздействием концепции Учредительного собрания определялись конкретные формы политической борьбы с существующим строем частично реформированного старого режима, подготавливалась мысль, что подлинно народную и демократическую конституцию в России, исходя из высоких идеалов права, возможно учредить только посредством особого общенационального представительного органа, наделенного учредительной властью и избранного на основе всеобщего прямого равного избирательного права при тайном голосовании. Однако, когда идеал, казалось, нашел воплощение в политической практике 1918 года, сформированное Учредительное собрание не смогло выполнить предназначавшуюся ему функцию по принятию конституционного акта. Новая политическая сила (большевики), пришедшая к власти, в условиях социального раскола общества и грядущей Гражданской войны отказалась от собственного конституционного идеала, использованного в борьбе со старым режимом. Дальнейший процесс создания и развития советской политической системы трансформировал запрос на демократический способ принятия конституции. Для многих советских конституций (сталинской Конституции СССР 1936 года, брежневской Конституции СССР 1977 года) применялась особая процедура предварительного всенародного обсуждения, которая стала реальным политическим мифом Советского государства, поскольку отражала традиционную для прежнего российского строя форму политического участия: «народу – сила мнения, монарху – сила власти». При этом место коллективного монарха в этой формуле занимала правящая политическая партия, выступавшая от имени народа и сохранявшая в своих руках основные государственные рычаги трансформации общества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: