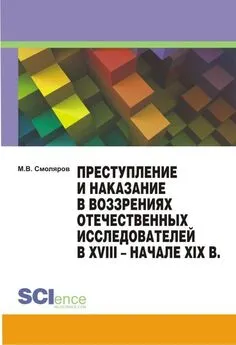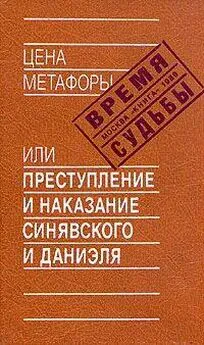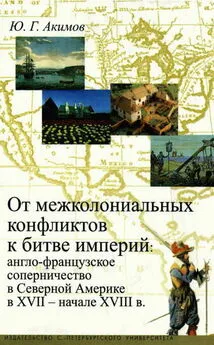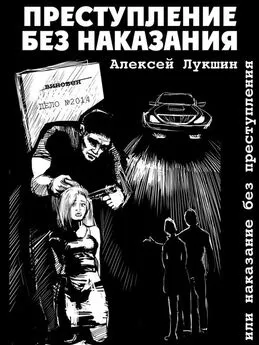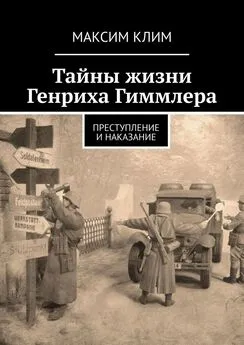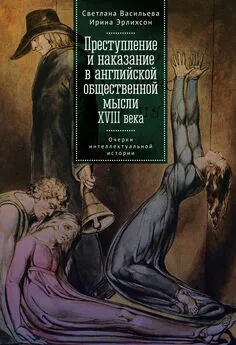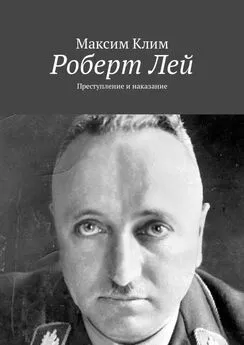Максим Смоляров - Преступление и наказание в воззрениях отечественных исследователей в XVIII – начале XIX в.
- Название:Преступление и наказание в воззрениях отечественных исследователей в XVIII – начале XIX в.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Кнорус
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4365-0226-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Смоляров - Преступление и наказание в воззрениях отечественных исследователей в XVIII – начале XIX в. краткое содержание
Преступление и наказание в воззрениях отечественных исследователей в XVIII – начале XIX в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Отметим, что гуманистические идеи Ш.Л. Монтескье, Вольтера и других ученых, ставившие ультимативный вопрос об улучшении содержания осужденных, гуманизации уголовного процесса, оказали существенное влияние на уголовное законодательство зарубежных стран. Например, Вольтер, Томазий, Зоннефельс доказывали бесчеловечность пытки в рамках уголовного процесса. Их борьба увенчалась успехом: в 1770 году пытка была отменена в Дании, в 1772 г. – в Швеции, в 1776 г. – в Австрии, в 1780 г. – во Франции, в 1801 г. – в России и так далее. Постепенно происходит отмена телесных наказаний: так, во Франции отмена телесных наказаний была признана Кодексом 1791 г. (хотя некоторые меры действовали и в XIX в.), в Германии – в 1848 г. (потом, правда, они были восстановлены, «и отменены совершенно гораздо позднее») [140].
2. Гуманизация системы исполнения наказаний в воззрениях отечественных ученых
Большинство мыслей, высказанных российскими просветителями второй половины XVIII в., базировались на идеях профессора Московского университета К. Г. Лангера. Он не только заложил основы восприятия уголовного законодательства страны, но и разработал систему наказаний за совершенные преступления.
Ученый давал понятие преступления, которое понималось им как явления, напрямую зависящие от воли человека «и суть такие действия, которые тишину и безопасность общую нарушают». «Великость преступления» зависит от того, «сколько много потревожено ими общее спокойствие» [141]. Цель наказания состоит в том, чтобы соблюсти благополучие общества. К. Г. Лангер последовательно отстаивал позицию умеренности карательных мер (казнь, считает он, необходима только в том случае, «дабы на истребление людей беззаконных прочие жить могли спокойно, строгая ж и жестокая потому, чтоб зрители на то смотря, уклонялись от преступлений»). Умеренность карательных мер должна определяться в каждый конкретный исторический момент, учитывая условия общества, особенности, размер территории. Смертную казнь, считал ученый, следует запретить. Во время проведения расследования по уголовному делу К.Г. Лангер последовательно выступал противником пыток [142].
Необходимо отметить, что в советское время пенитенциарные и государственные воззрения ученого достаточно жестко критиковались. К.Г. Лангера называли догматиком, поклонником немецкой школы философии права [143]. Однако сейчас, мы считаем, пенитенциарные воззрения К.Г. Лангера (вопросы умеренности наказания, цель наказания и др.) будут интересны для современной пенитенциарной отечественной науки.
Несколько иную точку зрения представляет И. Посошков, который эмпирическим путем выводит формирование и развитие уголовного права из действующей правоприменительной практики [144]. Борьбу с преступлениями он видит в разработке четкого и ясного уголовного закона (целесообразность наказания и системы предупреждения преступлений включается). Новый уголовный закон представляется И. Посошкову в кодификации имеющихся нормативных актов, действующих в Российской империи и за рубежом («И к тем русским рассуждениям прежним и нынешним приложить из немецких судебников, и кои статьи будут к нашему правлению пригодны, то те статьи взять и присовокупить к нашему судебнику») [145].
Что касается системы наказаний, применяемых к преступнику, И. Посошков отстаивает позицию необходимости достаточно жестоких наказаний, в том числе смертной казни [146].
Тюремное заключение И. Посошков активно критикует, указывая на его дороговизну. Однако и здесь ученый выводит ряд интересных положений, затрагивающих режим содержания: он предлагает классифицировать заключенных на группы, дабы одни не влияли вредным образом на других (преступников, пойманных в первый раз, следует посадить отдельно).
И. Посошков уделяет большое внимание предупреждению преступлений. К мерам превенции ученый относит не только репрессии, но и ряд мер, к которым относилось наложение клейм на подозреваемых и преступников [147].
В контексте изучения идей, связанных с переустройством государства и пенитенциарной политики, для исследователя представляют особый интерес работы профессора Московского университета, одного из основоположников дворянского либерализма и отечественной юриспруденции С.Е. Десницкого, предложившего не только грамотные правовые изменения в государственном устройстве, но и очевидные новшества в вопросах по назначению наказания.
В частности, как указывается в «Представлении об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи», вся власть в стране должна была делиться на несколько основных ветвей: законодательную (которую, как указывал просветитель, никто не может осуществлять кроме монарха), судительную, наказательную и гражданскую (аналог нынешнего местного самоуправления). По этому поводу С.Е. Десницкий писал: «Законы делать, судить по законам и производить суд во исполнение – сии три должности составляют три власти: законодательную, судительную и наказательную, от которых властей зависят все почти чиноположения и все главные правления в государствах» [148].
Каждая из данных властей должна была работать не изолированно друг от друга, а разумно и правильно взаимодействовать друг с другом, но и не выходить за пределы полномочий, которые были указаны при основании этих властей.
Если полномочия судительной (то есть судебной) власти ограничивались судопроизводством, то наказательная власть должна была исполнять приговоры суда, но не выходить за пределы приговора. Главой наказательной власти должен был стать монарх, назначавший специальных воевод. К полномочиям данной ветви власти должны были относиться борьба с преступностью, сыск, соблюдение «спокойствия и тишины», правоохранительная деятельность в городах. К данным полномочиям С.Е. Десницкий присовокуплял и такие полномочия, которые никак не могли быть исполнены данной властью – к ним относились полномочия по сбору налогов и пошлин, а также наблюдение за противопожарной безопасностью.
Особняком в полномочиях воевод стояла задача наблюдать и контролировать деятельность российских тюрем, и в частности, содержать осужденных в тюрьме. Просветитель вполне понимал, что в России, где властвует коррупция и произвол, деятельность воевод требуется поставить под жесткий контроль. Поэтому всякие правонарушения воевод должны были быть разобраны в губернских судах, где для таких дел создавались даже особые комиссии [149].
Заслуживает внимания идеи С.Е. Десницкого о наказании в уголовном праве. Сам просветитель отделяет достаточно четко два понятия – нравственно недопустимого от неправды уголовной, которая и ведет за собой соответствующее наказание: «…истины двоякое знаме-нование..: исполнительная истина велит делать все то, что только по строгости права требовано быть может от целого света; и в противном случае оная велит наказывать всякого без изъятия по строгости ж прав за преступление. Воздаятельная истина перед исполнительною ту имеет разность, что за неисполнение ее люди не подвергаются наказанию, хотя, впрочем, исполнением оной заслуживают себе и великую похвалу от Бога и от человека» [150].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: