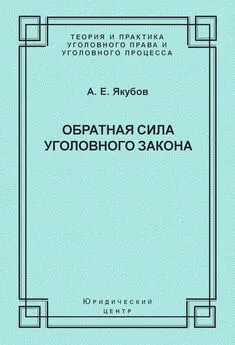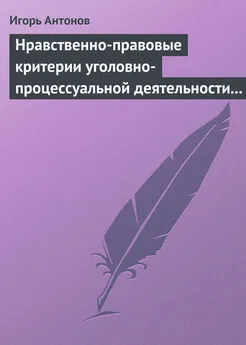Анатолий Барабаш - Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-процессуальной деятельности и их установление
- Название:Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-процессуальной деятельности и их установление
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Юридический центр
- Год:2005
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-94201-435-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Барабаш - Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-процессуальной деятельности и их установление краткое содержание
Правоприменителю предлагается в своей деятельности реализовывать не состязательное, а публичное начало, наиболее приемлемое для российского уголовного процесса. Причем ни состязательность, ни публичность нельзя рассматривать в качестве принципов процесса, это основные начала, на которых строятся разные процессы, их база, фундамент. Каждое из них, в свою очередь, обусловливает разную систему принципов процесса.
Выявленная природа российского уголовного процесса в дальнейшем исследовании является стержнем, связывающим рассмотрение всех проблем, решение которых не только базируется на этой основе, но во многих местах дополнительно укрепляет ее.
Рекомендуется для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений и практических работников.
Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-процессуальной деятельности и их установление - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но ведь в суде он еще и обвинитель, как считают многие авторы и законодатель. В таком случае осуществление «функции надзора в суде выглядит противоречащим обвинительной деятельности прокурора. …Прежде всего потому, что обвинение и надзор два разнонаправленных вида деятельности, и хотя бы поэтому несовместимых» [88] Баксалова А. М. Характер деятельности прокурора в судебном разбирательстве//Правовые проблемы укрепления российской государственности. Вып. 7. Томск, 2001. С. 39.
. Правильно, что две эти функции прокурора в суде, так же как предлагаемые ему две функции на предварительном расследовании – надзора и процессуального руководства (уголовного преследования), не могут быть одинаково успешно реализованы.
Наделяя «прокурора функциями обвинения и надзора, мы ставим его перед выбором, и он либо выберет лишь одну из них, либо, если в соответствии с законом решится выполнять и надзор, и обвинение, будет и то и другое выполнять плохо» [89] Там же.
. Верно, но это случится только лишь в том случае, если надзор и обвинение рассматривать как равноценные виды деятельности, но они, как показано выше, таковыми быть не могут, что не исключает их представленности в большинстве случаев в той деятельности, что осуществляет прокурор в суде. Обвинением, зачастую, заканчивается надзорная деятельность прокурора в суде.
Выше были приведены аргументы в пользу того, что в рамках предварительного расследования у прокурора в большинстве случаев не может сформироваться внутреннее убеждение по вопросу о виновности обвиняемого в инкриминируемом ему обвинении. О том, что лицо совершило преступление, прокурор может утверждать только в конце судебного разбирательства, на основе непосредственно исследованных в суде доказательств. В суд он идет как орган надзора, которому стало известно о возможно совершенном преступлении. При подтверждении в суде доказательствами вины лица в совершении преступления прокурор переходит к завершающей части надзорной деятельности в суде – к обвинению.
Таким образом, надзор и обвинение связаны между собой, и о них можно говорить как о едином явлении, если в рамках судебных прений прокурор выступает с обвинительной речью. В иных случаях надзор осуществлялся, но завершился он отказом от обвинения.
Утверждение об осуществлении прокурором в суде надзорных функций вызывало и вызывает острое неприятие со стороны сторонников состязательности в российском уголовном процессе [90] См., напр.: Петрухин И. Л . Состязательность и правосудие // Государство и право. 1994. № 10. С. 131–132.
. Они выступают против надзорных полномочий прокурора в суде в силу того, что такие полномочия нарушают равенство сторон состязательного процесса. Неравенство проявлялось, по их мнению, в том, что прокурор давал заключение по возникающим во время судебного разбирательства вопросам, тогда как защитник высказывал только мнение (ст. 248, 249 УПК РСФСР). Это так, но где в законе говорилось о том, что заключение прокурора обязательно для суда? Такой статьи мы не найдем. Хозяином процесса был суд, и для него одинаковое значение имели и заключение прокурора, и мнение защитников. В одном случае, если он согласится, он отдаст предпочтение заключению прокурора, в другом – мнению защитника, в третьем – ни тому и не другому, если его позиция будет отличаться от высказанных предложений.
В данном случае получается, что по правовому значению заключение и мнение не отличались, отличие только в названии, но может ли это само по себе давать преимущества прокурору? Возможно, оно в другом полномочии, на которое указывали в этой связи. В соответствии со ст. 25 УПК РСФСР прокурор был обязан своевременно принимать все предусмотренные законом меры к устранению всяких нарушений закона, от кого бы они ни исходили, будь то суд, защитник или другой участник процесса. Он обязан принимать меры к устранению, но у него не было полномочий своими силами устранить нарушение, как это, допустим, он мог сделать при осуществлении надзора за предварительным расследованием, там он хозяин, но не в суде. А каким образом поведет себя защитник, если будут нарушены права и законные интересы его подзащитного, он останется безучастным? Если речь идет о добросовестном защитнике, представить такое невозможно. Он будет протестовать, не обращая внимание на то, кем допущено нарушение, пусть даже самим судом. Так в чем же было неравенство между прокурором и защитником в этом случае? Его можно обнаружить только в том, что прокурор в силу публичности обязан был реагиро вать на любое нарушение закона, независимо от того, чьи интересы это нарушение затрагивало, защитник – применительно только к законным интересам своего подзащитного, но это неравенство обусловлено разницей в целях участия в процессе прокурора и защитника, и если его устранить, вместо защитника мы получим в процесс второго прокурора.
Рассматриваемое полномочие не ставило прокурора над судом, как это принято считать, иначе можно было бы предположить, что в тех случаях, когда против допущенных судом нарушений протестует защитник, суд попадает в зависимость от него. Но это было бы совершенно абсурдное предположение. Наоборот, доведение до логического конца представления о прокуроре, как об обвинителе, ставит суд в такую зависимость от последнего, в какой он никогда не был и не мог оказаться в рамках понимания его роли в суде как органа надзора [91] См. также: Васильев О. Л . Состязательность как принцип организации судебного следствия в уголовном процессе // Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. 1999. № 5. С. 55.
.
Связывание суда позицией прокурора началось с возрождения суда присяжных. Статья 430 УПК РСФСР формулировала правило, что отказ прокурора от обвинения при отсутствии возражения со стороны потерпевшего влечет прекращение дела. С 20 апреля 1999 г. это положение распространилось на все суды. Конституционный Суд РФ, наряду с другими, признал не соответствующей Конституции РФ ч. 4 ст. 248 УПК РСФСР, согласно которой суд был обязан продолжать разбирательство дела и разрешить на общих основаниях вопрос о виновности и невиновности подсудимого в случае отказа прокурора от обвинения.
В ходе судебного следствия внутреннее убеждение по поводу решения основных вопросов уголовного дела формируется не только у прокурора, но и у суда. Во всяком случае законодатель пока не отказал суду в этом. Более того, в определенных ситуациях он отдавал предпочтение внутреннему убеждению профессионального судьи перед внутренним убеждением судей от народа (ч. 3 ст. 459 УПК РСФСР).
Из сказанного с несомненностью вытекает утверждение, что оценка судьей доказательств по внутреннему убеждению – одно из содержательных оснований принципа независимости судей. Что же происходит с этим основанием в том случае, когда прокурор отказывается от поддержания государственного обвинения? Судья может оценивать доказательства иначе, чем прокурор, но это ничего не значит, он обязан прекратить дело, тем самым судья лишается независимости в самом важном моменте процесса – оценке доказательств по внутреннему убеждению и попадает в зависимость от оценки прокурора [92] Эту же самую мысль подчеркивал В. С. Балакшин, когда писал, что суд ставится в условия, «когда вынужден принимать решения, сообразуясь с мнением государственного обвинителя, если даже оно противоречит его внутреннему убеждению и обусловлено очевидной ошибочной его (обвинителя) позицией…». См.: Балакшин В. С . Доказательства в российском уголовном процессе: понятие сущность, классификация. Екатеринбург, 2002. С. 88.
.
Интервал:
Закладка: