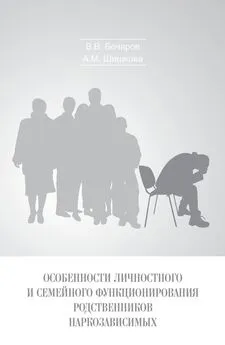Виктор Бочаров - Антропология права. Статьи, исследования
- Название:Антропология права. Статьи, исследования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент СПбГУ
- Год:2013
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-288-05477-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Бочаров - Антропология права. Статьи, исследования краткое содержание
Книга может представлять интерес для этнографов, антропологов, социологов, культурологов, политологов и юристов.
Антропология права. Статьи, исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Аналогичная история была характерна и для России. Так, введение на Кавказе более прогрессивных и справедливых (с точки зрения российских европеизированных властей) законов наталкивалось на полное непонимание их местным населением, выражавшим в связи с этим активный протест (Кондрашова 1999: 207).
Различия между российским законодательством и правосознанием кавказцев установил в ходе полевых исследований М. Ковалевский: «Нам не раз приходилось слышать жалобы на то, что тайные убийства возникли лишь со времени русского владычества, с тех пор, как введенные нами суды перестали признавать право кровного возмездия; в прежние же годы нападения на врага совершались открыто, а виновные всячески старались огласить свои деяния, видя в них исполнение священного долга, налагаемого узами родства» (Ковалевский 1886, т. 1: 7). Нередко конфликт правовых культур мог приводить и вовсе к конфузу. Например, известен случай, когда местный житель, отбывший наказание, обратился к судье с просьбой посадить его в тюрьму на новый срок за совершение того же преступления. Причина была в том, что, понеся наказание за убийство по российскому законодательству, он не был наказан по адату, и дома его ждали в лучшем случае выплата компенсации (плата за кровь), в худшем же – смерть (Иваненко 1904: 106).
Анализируя деятельность судов низшей инстанции, которым предписывалось действовать в соответствии с адатами, М. Ковалевский и здесь фиксировал культурный конфликт. Его источником был русский писарь, который, будучи носителем иной культуры, вносил инородный элемент в местное судопроизводство: «Сами аульные суды – подобие наших волостных судов – не всегда придерживаются в своих решениях чисто народных начал права и процесса. Главную роль в них играет писарь, ведущий на русском языке протоколы… Осетины жаловались мне: всемогущий на суде писарь, обыкновенно невежда в местных обычаях, вносит в порядок разбирательства процессов правила, далеко не отвечающие туземному праву» (Ковалевский 1886, т. 1: 225).
Однако осмысление процесса культурного взаимодействия в рамках эволюционной теории расценивало «периферийные» культуры исключительно в категориях «неразвитости» или «отсталости». Практическая же политика при данном понимании проблемы была ориентирована на замену обычно-правовых систем европейскими эквивалентами. При этом колониализм обретал гуманистический пафос. Переход к функциональному осмыслению культурного процесса во многом был мотивирован колониальной практикой, продемонстрировавшей, что замена одного права другим попросту невозможна. Однако, несмотря на признание функциональной парадигмой за каждым элементом культуры, включая право, выполнение позитивной функции, на практике существовала лишь возможность бытования некоторых обычно-правовых норм, не противоречивших главным принципам «цивилизации». В то же время мнение европейцев о судьбе обычно-правовых систем в будущем оставалось неизменным, а именно: их смена каким-либо европейским аналогом представлялась неотвратимой.
Общий методологический посыл, который роднит оба подхода, – это отождествление «общества» и «культуры» и, как следствие, общественного прогресса с прогрессом культурным. Если первый действительно предполагает смену более простых типов общественных отношений более сложными вариантами (коллективная собственность уступает место частнособственническим отношениям, натуральный обмен – товарно-денежным отношениям и т. д.), то в сфере культуры прогресс означает нарастание множественности форм, когда новые формы не отменяют старые, а сосуществуют наряду с ними. Более того, вновь возникающе явления зачастую могут выступать в традиционной форме, как, впрочем, и наоборот. Короче говоря, одним из критериев развитости культуры является множественность присущих ей форм.
Именно поэтому, как представляется, понимание культурного развития как движения от «дикости» к «цивилизации», от «обычая» к «закону» уступило место концепции «правового плюрализма», признающего существование множественности культурных форм и правовых порядков, обладающих одинаковым статусом.
Однако это случилось лишь в конце XX в., когда стало очевидно, что, несмотря на «культурный прогресс» в бывших колониях, обычно-правовые системы не только не утратили своих позиций, но подчас обрели «второе дыхание». Аналогичная ситуация сложилась практически на всей территории бывшего СССР. Поэтому рассмотрим путь, пройденный юридической антропологией в нашей стране, пытаясь соотнести его с общественно-политической практикой того или иного периода времени.
В России XIX в. эта наука развивалась не менее интенсивно, чем на Западе. Круг проблематики, затрагивавшейся нашими учеными, красноречиво свидетельствует об этом. Уже в первой половине XIX в. был поднят вопрос об обычае как источнике писаного права и высказана идея, что именно «путем обычая юридическое воззрение прокладывает себе дорогу к действительности» (Мейер 1861: 26).
Прослеживалась роль обычая в судебном процессе, на основе исторических источников ставился также вопрос о взаимодействии различных правовых систем, в частности византийской и обычно-правовой, в котором приоритет отдавался последней. Например, П. Н. Мрочек-Дроздовский, занимавшийся изучением влияния Византии на русское законодательство, считал, что «византийские законы, будучи неприложимы к русской жизни, вызвали потребность в однопредметных постановлениях, основанных на обычном праве» (Мрочек-Дроздовский 1892: 260). Отмечалась и роль обычного права в повседневной жизни крестьянства дореволюционного периода: «Почти исключительно обычным правом и до наших дней регулирует свою правовую жизнь… огромное большинство русского народа» (Загоскин 1899: 186).
Кстати, русскими учеными гораздо раньше высказывалась мысль о нецелесообразности использования аппарата юриспруденции при изучении обычно-правовых систем, на чем впоследствии настаивал Б. Малиновский. Например, А. Я. Ефименко писала: «Народное обычное право и право культурное представляют собой два строя юридических воззрений, типически отличных один от другого, и потому всякая попытка систематизировать народное право по нормам юридической теории есть самое неблагодарное дело» (Ефименко 1884: 171). Рассматривались не только вопросы теоретического характера. Велись, в частности, активные дискуссии о применимости обычно-правовых норм в судебной и административной практике России. Одни считали, что необходимо вообще запретить судебным учреждениям применять нормы обычного права, подчинить население единому писаному закону. Другие, наоборот, полагали, что «подобные кабинетные мнения возникли из-за полного незнания русской действительности. Слепые силы, действие которых приписывалось обычаю, – это экономические, племенные, исторические и прочие условия, с влиянием которых должен считаться каждый законодатель, если не желает, чтобы закон его остался мертвой буквой… За крестьянами должно быть оставлено право судиться по местным обычаям. И каждый раз суд в своем решении должен указывать на существование каждой местности такого обычая. И при споре сторон удостоверять его существование ссылками на постановления мирских сходов, опросом окольных людей и т. д. При этом стремиться создать свод обычного права, кодифицировать его не имеет смысла, так как это означает игнорирование местных условий и вытекающие из них различия в самих обычаях, и нет никакой возможности втиснуть их в определенные рамки, ибо для этого надо сделать неизменными эти жизненные условия. Собирать и разрабатывать юридические обычаи следует:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


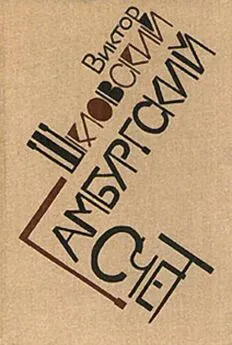

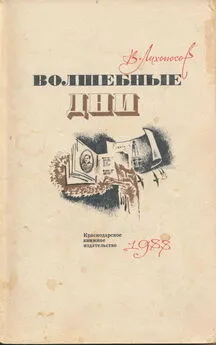

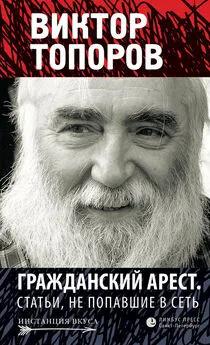
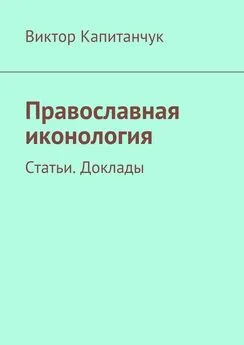
![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/1071372/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push.webp)