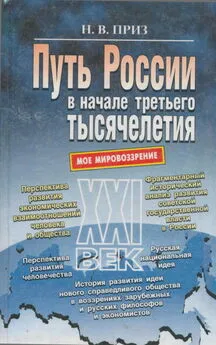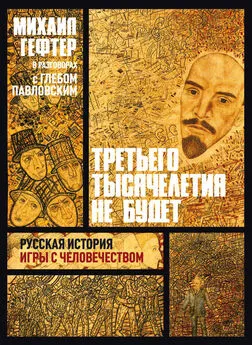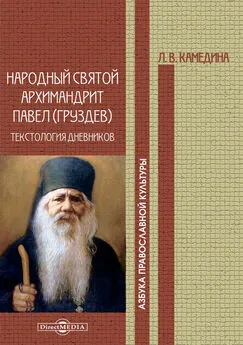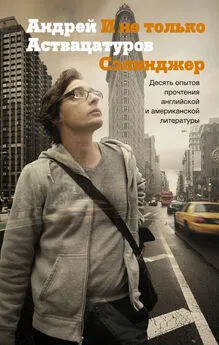Людмила Камедина - Текст в диалоге с читателем: опыт прочтения русской литературы в начале третьего тысячелетия
- Название:Текст в диалоге с читателем: опыт прочтения русской литературы в начале третьего тысячелетия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Директмедиа»
- Год:2014
- Город:Москва-Берлин
- ISBN:978-5-4475-2701-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Камедина - Текст в диалоге с читателем: опыт прочтения русской литературы в начале третьего тысячелетия краткое содержание
Учебное пособие предназначено для студентов-филологов, учителей-словесников, а также всем обучающимся русской литературе.
Текст в диалоге с читателем: опыт прочтения русской литературы в начале третьего тысячелетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Авторский уровень будет строиться на размышлениях, рассуждениях, описаниях, изображениях, обдумываниях, обрисовках персонажей, ситуаций, пейзажа, явлений…
Комментарии к «Евгению Онегину», написанные Ю. Лотманом, ряд его статей и книг о культурном обиходе начала XIX века помогут полнее выявить этот пласт романа.
По такому же принципу выявляется интеллектуально-политический уровень в романе. На этом уровне главный персонаж – Евгений Онегин – будет обрастать следующими словесными смысловыми знаками: бранил Гомера, Феокрита, читал Адама Смита, помнил анекдоты, два стиха из Энеиды, особо почитал Назона, барщину заменил оброком, знал, как государство богатеет… Онегин сумел коснуться до всего слегка сученым видом знатока.
Владимир Ленский не уступит Онегину в интеллекте: поклонник Канта, выученик Геттингена, философ, поэт… Правда, интеллект Ленского совершенно не соотнесен с реалиями жизни. Жизнь для него была заманчивой загадкой; над ней он голову ломал и чудеса подозревал.
Татьяна окажется не только любительницей русской старины, но и почитательницей Ричардсона и Руссо. Ее любимые герои: Грандисон, Клариса, Юлия, Дельфина, любовник Юлии Вольмар и Вертер… Она достаточно хорошо владеет языком любовной страсти – французским.
Интеллектуальная характеристика Ольги окажется самой короткой и точной: кругла, красна лицом, глупа, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне.
Интеллектуально-политический уровень Автора – в романе. На этом уровне видна колоссальная разница между Автором и его героем. Онегин совершенно равнодушен к политической жизни в стране, а уровень его интеллекта указан степенью коснуться до всего слегка. Не среда, а сознание героя формируют его характер. Автор в основу образа главного героя заложил не столько социальную характеристику, сколько идеолого-интеллектуальную. Именно с этой точки зрения он оценивает Онегина. Сам же Автор знает все, оценивает все глубоко и со знанием дела.
Игра с «чужим словом». На наличие этого уровня указывает сам текст романа. Объем культурной памяти автора составляет, по исследованию Ю. Лотмана, более 150 имен. Это игра с уже известными сюжетами. Пушкин вступает в диалог с этими «чужими» сюжетами, образами. В роман введен и иностранный текст.
Литературовед В. Турбин называет источники заимствования имен главных и второстепенных героев. Не только предшествующая русская литературная традиция сыграла свою роль, но и журнальная и газетная культура, которая тоже была завоевана Пушкиным. Многие имена и фамилии перекочевали в роман из журнала «Благонамеренный». В. Турбин рассказывает о взаимоотношениях Пушкина с этим журналом. Имя Евгений «гремело» в журналистике; Татьяна – святая, «основоположница», она же – положительный персонаж романа. Любопытна находка В. Турбина, связанная с Владимиром Ленским: «А Ленский… Владимир Ленский – литературный иммигрант оттуда же, из «Благонамеренного»: В один прекрасный весенний вечер добродушный Ленин прогуливался по саду со своим сыном, молодым человеком, недавно возвратившимся из Университета, – поведал журнал («Стихи и собака», – 1819, – № XIV, – с. 74). Молодой человек, фамилия которого производна от названия реки Лены, недавно возвратившийся из университета (!) —
По имени Владимир Ленский,
С душою прямо геттингенской…
Одним из первых обратил внимание на «чужое слово» в романе М. Бахтин (21). Исследования М. Бахтина касаются чисто теоретических аспектов: определения «чужой речи», автор и чужой текст, проблема диалога и т. д. В романе Пушкина выявляются позиции: а) Автор как таковой; б) Автор в диалоге (игра с различными воображаемыми адресатами, это имитирует дружескую болтовню); в) Автор об авторе романа. На наличие последнего метаструктурного пласта указывает Ю. Лотман (6, 56). Возникает игра между различными уровнями повествования.
Следует сказать об уровне, который весьма условно можно было бы назвать парадигмальным. В своих исследованиях о Пушкине Ю. Лотман называет составляющую парадигму пушкинского романа: свобода – творчество – любовь. Далее, исходя из содержания текста, необходимо взглянуть на каждого героя, в том числе и Автора, через призму названных ведущих понятий. Выявляется отношение к свободе Онегина (он – раб вещей), Ленского (он – певец романтических грез), Татьяны (можно говорить об осознанной свободе как добровольно принятой жертве; Татьяна жертвует собой ради других), наконец, Автора (творчество и свобода неразделимы).
Отношение к творчеству героев Пушкина тоже очевидно из текста: Онегин не различал ямб и хорей, из истории любил только анекдоты; Ленский пел нечто и туманну даль; Татьяна выступает как творец своей судьбы; Автор – творец романа, поэтому бросается в глаза обилие глаголов изображу, перескажу, думал, назову и т. п.
Третий член парадигмы, указанный Ю. Лотманом, выявляет не столько «плотское» значение слова – любовь как страсть, сколько Любовь как отношение к жизни вообще. Здесь ясно, кто из персонажей чего стоит. Онегин овладел любовью как «наукой страсти нежной», любил «кокеток записных» и волочился за чужими женами. Ленский выдумал Ольгу, соотнеся ее с героиней какой-то романтической поэмы, то есть любил не Ольгу, а образ о ней. Татьяна, начитавшись любовных европейских романов, вначале воспылала страстью к Онегину (Ты чуть вошел, я вмиг узнала, Вся обомлела, запылала/ И в мыслях молвила: вот он! (22, 59), потом стала задаваться вопросом: Кто ты, мой ангел ли хранитель/ Или коварный искуситель?.. (22, 60), а узнав – кто? – остыла, и мы уже видим в северной столице «холодную» Татьяну, которая, хотя и продолжает любить Онегина, но уже не пылкой французской страстью, а скорее, по-русски – глубоко, жертвенно и незаметно для окружающих. Автор же на протяжении всего романа рассказывает о своей любви, в том числе, и к Татьяне (люблю Татьяну милую мою).
Любовь к Татьяне у Пушкина – это и отношение к миру, его отклик на судьбу человеческую. Онегин же лишен Любви, его вхождение в мир определено эгоистическим расчетом, сухой рационалистичностью (Любите самого себя ), скукой и тоской, а «уныние», как писал Гоголь, – враг человеческий, начало всех других пороков.
На мифологический уровень романа указывают исследования В. Марковича, В. Турбина (23). Смыслоорганизующим центром романа является сон Татьяны. Этот сон – вещий, чудесный. Поскольку Татьяна «святая», то ей дано видение, из которого она получает знания о волнующей ее ситуации. До сна Татьяна в растерянности, она любит Онегина и в то же время «внутренний голос» подсказывает ей, что он – не тот, за кого себя выдает. Она терзается сомнениями – кто перед ней: ангел-хранитель или бес-искуситель? В ответ ей снится «чудный сон», это «видение» – прорыв за пределы эмпирической реальности. Онегин восходит к архетипам культурного героя, он отпадает от мировой связи людей, традиции, естественной жизни. Это ведет к роковым последствиям. Онегин превращается в героя мистерии, он связан с «темными силами мира», с силами зла. В него вселяется эта демоническая сила, и он не может совладать с ней. Он разрывает связь в непрерывной цепи бытия, он становится убийцей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: