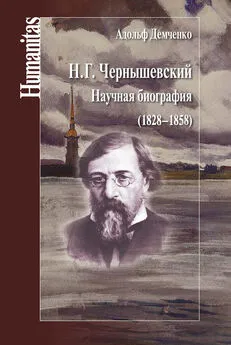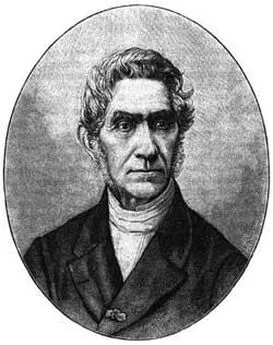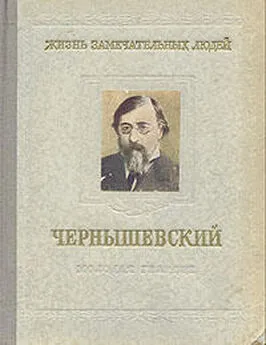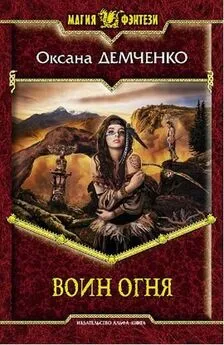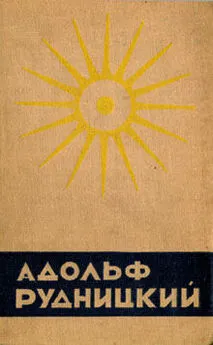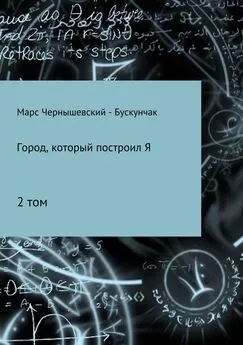Адольф Демченко - Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)
- Название:Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ЦГИ
- Год:2015
- Город:Москва, Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-536-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Адольф Демченко - Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858) краткое содержание
Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В списках училища Чернышевский числился до 1842 г. Занятий он не посещал, являясь лишь на экзамены. Из года в год он успешно переходил в следующие классы с неизменной аттестацией: «способностей и успехов весьма хороших» или «очень хороших». Об этом свидетельствуют «Ведомости об учениках обоих Саратовских духовных уездно-приходских училищ, обучавшихся в домах родителей». [155]
Архивные документы позволяют установить объем училищной программы. В первых двух классах ученики должны уметь читать на славянском языке из «Псалтиря» и «на гражданском» – из «Нового Завета»; знать имена речи из российской грамматики; уметь складывать и вычитать простые числа; иметь начальные сведения из нотного чтения. В низшем отделении учеников знакомили с основами латинской и греческой грамматики, изучали катехизис и церковный устав, углубляли знания по славянской грамматике и арифметике. Программа высшего отделения дополнительно к этим предметам включала сведения из географии («общие понятия о гражданских обществах и их образах правления и о вероисповеданиях, общий обзор Европы в физическом и политическом состоянии»), из священной истории (например, «царствование Саула, Давида, Соломона и общий взгляд на пленение вавилонское»). Обязательным условием для выпускников училища являлся перевод довольно сложных текстов с латинского и греческого языков. [156]
Из архивных же источников выясняется полный состав учителей, принимавших у Чернышевского экзамены. В первых два учебных года (1836–1838) это был Иван Ливанов, которому в 1838 г. исполнилось 22 года. Воспитанник пензенского и саратовского училищ, он два года учился в Саратовской семинарии и зачислен на должность учителя 2-го класса 1-го приходского училища с 14 августа 1834 г. [157]В следующие два года (низшее отделение 1-го уездного училища) латинский язык принимал сначала Николай Вазерский (в 1838/39 уч. году), затем Матвей Надеждин (род. в 1821 г., выпускник Саратовской семинарии), греческий – Николай Гиацинтов (род. в 1813 г., учился в Пензенской семинарии, образование завершил в Саратове [158]). В высшем отделении главными экзаменаторами были Николай Вазерский (латинский язык) и Пётр Сокольский (по греческому языку). Первый исполнял также должность инспектора (назначен после истории с Архангельским). Он родился в 1812 г. и после окончания Саратовской семинарии рукоположен во священники. Петр Сокольский (род. в 1820) был сыном саратовского протоиерея, в училище начал преподавать ещё будучи семинаристом, а учителем греческого языка был назначен 15 июля 1840 г. [159]О нём писал его бывший ученик, что он за гривенник отпускал своих учеников с уроков. [160]
Ректором училищ во всё время числился Григорий Николаевич Амалиев (1800–1872). С 1811 по 1814 г. он учился в Пензенской семинарии – в одно время с Г. И. Чернышевским, затем перешёл в Астраханскую, по окончании которой поступил в Петербургскую духовную академию. Первое время после академии он преподавал в Астрахани, а с 1831 г. жил в Саратове. Ректором его назначили в сентябре 1832 г. Дьяконский сын, окончивший академию со степенью магистра, он пренебрёг учёной карьерой, и после смерти жены постригся в монахи (в 1839 г.) с наречением имени Гавриил. [161]
Из приведённых данных об учителях-экзаменаторах Чернышевского видно, что никто не мог соперничать с Гаврилой Ивановичем в знаниях и преподавательском опыте. Но этого мало. Разработанная им система обучения сына во многом преодолевала схоластические методы и приёмы, укоренившиеся в учебных заведениях, и максимально учитывала индивидуальные особенности восприятия знаний. Он совершенно отказался от зубрёжки, не считал нужным «морить детей за книгами». Взятые в кавычки слова принадлежат Ф. В. Духовникову, который приводит в доказательство любопытный фрагмент из воспоминаний И. Н. Виноградова: [162]«„А где Коля?” – спрашиваю я мать Николая Гавриловича, зашедши раз к Чернышевским. „На дворе или на улице играет, – отвечала она, – сколько раз говорила отцу, чтобы он отдал его в училище. Что баловаться ему дома? Нет, и слушать не хочет; только и говорит, что Коля знает больше, чем все ученики второго класса. У вас ведь в училище учатся до обеда и после обеда, а он уроки, что задает ему отец, недолго учит: больше читает или играет”». [163]Особое внимание Гаврила Иванович уделял изучению языков. Составляя учебную программу для сына, он выходил далеко за пределы требований духовной школы. В этом отношении показателен следующий пример. 16 марта 1836 г. ректор училища получил из семинарского правления «Предписание» за № 184 с заключением о неудовлетворительности занятий древними языками: «Переводы большею частью делаются учениками из книг языческого учения и при том таких, которые заключают в себе пустые басни и посмешки – не только бесполезные для нравственности, но, можно сказать, и вредные особенно для юношей». Впредь строжайше предписывалось «поставить в обязанность учащим по латинскому языку для упражнений с русского на латинский и обратно назначить, вместо языческих басен, из книг нравственного и религиозного христианского содержания, дабы дети, познавая язык, вместе напитывались и духом и мыслями христианскими». [164]Распоряжение начальства, разумеется, неукоснительно исполнялось, как это видно из содержания учебных программ училища. Так, на годичных испытаниях 13 июля 1839 г. Николаю Чернышевскому было предложено перевести «с греческого языка на российский из послания Святого Апостола Павла ко евреям». [165]Однако Г. И. Чернышевский не ограничивался религиозными текстами и не придерживался хорошо ему известных директив, продолжая заниматься с сыном по прежней системе, разработанной им, по-видимому, в бытность преподавания в училище в 1820–1830 гг. В ученической тетради Николая за 1840 г. мы находим переводы почти 50 басен, среди них «Волк и козлёнок», «Черепаха и осёл», «Ястреб и крестьянин», «Трость и дуб», «Обезьяны и двое путешествующих», «Коза и тюльпан», «Волк и пастухи», «Колпак и человек», «Волк, собака и пастух», «Соловей и кукушка», «Свинья и певица», «Колос хлебный», «Петух и вор». [166]Как видим, Гаврила Иванович решительно отказался от внедряемых официальной властью методов обучения, засушивающих ум и душу. Не противопоставляя басни религиозным текстам, отец Чернышевского стремился сблизить духовное обучение с жизнью. Такой взгляд на духовное образование вполне согласовывался с общим укладом семьи Чернышевских и способствовал зарождению широких, не стесняемых искусственными рамками представлений о мире.
Занятия древними языками шли с опережением и существенным углублением училищной программы. Помимо обязательных текстов (например, из книги Корнелия Непота «Сочинения о жизни славнейших полководцев»), Николай переводил «Энеиду», [167]«Речь в сенате в январские календы о полевом законе против Сервилия Рулла, трибуна народного» (с 14 по 21 октября 1841 г.), «О межевом законе против Сервилия Рулла, трибуна народного. Речь шестнадцатая») с 30 октября 1841 по 31 мая 1842 г.), начат перевод (до 26-й главы) «Трёх рассуждений Цицерона о ораторе, посвящённые брату его, Квинту» (с 6 мая 1842 г.). [168]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: