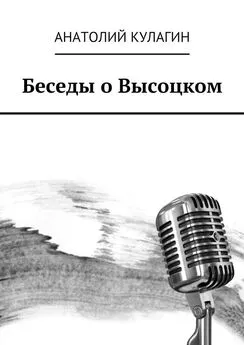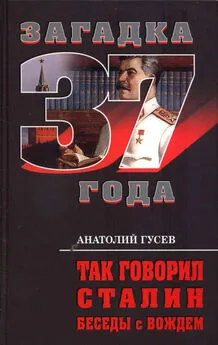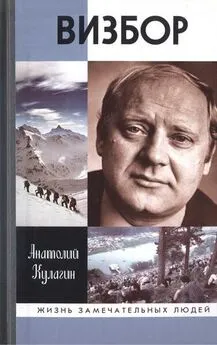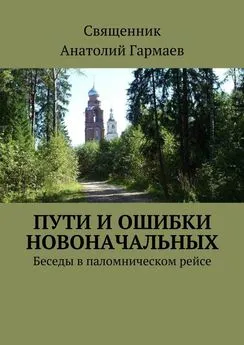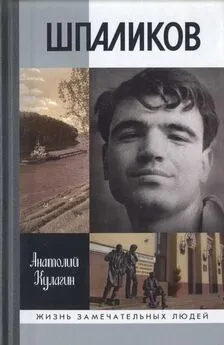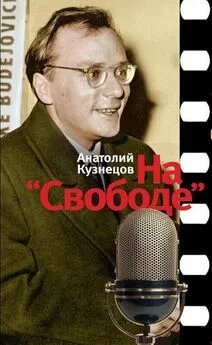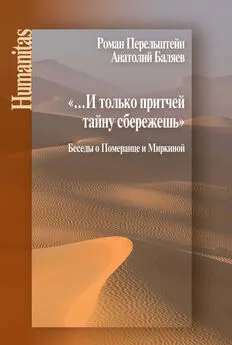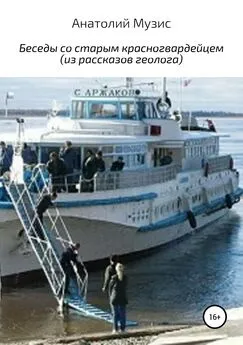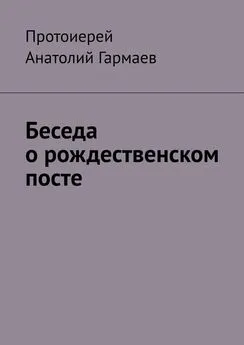Анатолий Кулагин - Беседы о Высоцком
- Название:Беседы о Высоцком
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447481964
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Кулагин - Беседы о Высоцком краткое содержание
Беседы о Высоцком - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Там же, на съёмках «Хозяина тайги», Высоцкий написал ещё одну, тоже ролевую, и тоже программную для себя, песню – «Охоту на волков». В своей способности к поэтическому перевоплощению он заходит здесь ещё дальше: поёт на сей раз не от имени человека, а от имени животного, хотя, конечно, герой его песни – фигура иносказательная. Но и этому волку – веришь. Веришь его отчаянию и надежде, его звериному крику: «Идёт охота на волков, идёт охо-ота!..» Кажется, перед нами и впрямь загнанный и таки ушедший от погони зверь:
Рвусь из сил – и из всех сухожилий,
Но сегодня не так, как вчера:
Обложили меня, обложили —
Но остались ни с чем егеря!
У этой песни есть своя предыстория. Как раз в 68-м году, в мае – июне, разразилась первая (и не последняя) травля Высоцкого в печати – инициированная, конечно, сверху. «Советская Россия», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» наперебой печатали статьи с показательными заголовками: «О чём поёт Высоцкий», «С чужого голоса», «Да, с чужого голоса!» Винили во всех грехах: и клевещет на нашу советскую действительность, и очерняет подвиг советских солдат, и поддакивает нашим «идеологическим противникам» на Западе: ведь наш якобы хороший социализм противостоит их якобы плохому капитализму. В качестве доказательств приводились строчки не только самого Высоцкого, но и почему-то… Юрия Визбора и Юрия Кукина. Те, кто стряпали эти статейки, оказались просто невежественными людьми – или же смешивали всё воедино умышленно, чтобы навешать на Высоцкого побольше ярлыков.
Но «Охота на волков» отражает не только обстоятельства биографии её автора. Высоцкий выразил в ней общее ощущение атмосферы 68-го года – одного из самых мрачных годов послесталинского времени. Именно в тот год тем, кто ещё надеялся на какие-то преобразования в обществе, стало окончательно ясно: Оттепель закончилась. Начались преследования людей, которые хотели «жить не по лжи» (Солженицын). Власть жёстко отреагировала на прошедший в марте новосибирский фестиваль бардовской песни: последовали запреты, выговоры и прочие меры. «Апофеозом» правительственной реакции стал ввод 21 августа советских войск в Чехословакию, где правительство реформаторов во главе с Александром Дубчеком пыталось строить «социализм с человеческим лицом». Кремль, державший в подчинении весь так называемый социалистический лагерь (Чехословакия, Польша, Болгария, Восточная Германия и др.), – признавал, конечно, только социализм со звериным оскалом. «Охота…» написана, судя по всему, до 21 августа – но написана в тот момент, когда, по меткому выражению критика Александра Гершковича, «стечением обстоятельств его (Высоцкого – А. К. ) судьба непризнанного поэта… и больная совесть страны, изготовившейся к прыжку в Прагу, стянулись в тесный неразрывный узел».
Не случайно «Охота на волков» и «Банька по-белому» были созданы одновременно. «Банькой…» поэт напоминал о сталинщине именно в тот момент, когда власти очень хотели стереть в сознании нации память о кровавых преступлениях тоталитарного режима. «Забыть велят», – возмущался тогда же Твардовский в своей предсмертной поэме «По праву памяти», так и не сумевшей пробиться через цензуру и увидевшей свет только в 1987 году, когда автора давно уже не было в живых. Честные художники знали: забывать нельзя, и «надо, надо сыпать соль на раны, чтоб лучше помнить – пусть они болят!» Так споёт Высоцкий почти десятилетие спустя в песне «Был побег на рывок …» (1977), сюжетом которой станет неудавшийся побег из лагеря двух заключённых.
Между тем, «волчья» тема (вернёмся к «Охоте…») не Высоцким в русской поэзии открыта. Она звучала в лирике Гумилёва, Ахматовой, Есенина, Мандельштама. Но, кажется, более всего песня Высоцкого сближается со стихотворением Пастернака «Нобелевская премия», написанным в 1959 году, в разгар травли писателя, последовавшей за публикацией на Западе «антисоветского» романа «Доктор Живаго» и присуждением ему самой авторитетной мировой литературной награды:
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу хода нет.
<���…>
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придёт пора,
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
Стихи Пастернака и Высоцкого сближаются за счёт общего мотива прорыва «за флажки», ухода от погони. «Обложили меня, обложили – // Но остались ни с чем егеря!» – эти слова из «Охоты…» подошли бы и герою «Нобелевской премии».
Для темы нашего разговора «Охота на волков» важна самими возможностями ролевой лирики. Впрочем, определение «ролевая» выговаривается здесь не без труда – слишком уж близок герой песни самому поэту… Вообще многие ролевые песни Высоцкого второй половины 60-х и рубежа десятилетий – люди, преодолевающие какие-то препятствия, доказывающие окружающим и самим себе право на самоуважение, добивающиеся своего во что бы то ни стало. Таковы герои не только военных и альпинистских песен (о тех и других мы ещё поговорим отдельно), но и песен, скажем, о спортсменах, моряках, аквалангистах, старателях…
Так, герои «Марша аквалангистов» (1968) не опускают рук даже после того, как их товарищ погибает под водой:
Мы плачем – пускай мы мужчины:
Застрял он в пещере кораллов, —
Как истинный рыцарь пучины,
Он умер с открытым забралом.
Пусть рок оказался живучей, —
Он сделал что мог и что должен.
Победу отпраздновал случай, —
Ну что же, мы завтра продолжим!
А герои «Марша шахтёров» (1970/71) тонко и точно обыгрывают девиз «Вперёд и вверх» применительно к своей профессии, тоже «глубинной» и тоже требующей огромного напряжения и мужества:
Не бойся заблудиться в темноте
И захлебнуться пылью – не один ты!
Вперёд и вниз! Мы будем на щите —
Мы сами рыли эти лабиринты!
Между тем, Высоцкий пишет ролевые песни и комедийного звучания: опыт иронико-пародийного творчества первых лет не пропал, пригодился на новом витке поэтического развития. И хотя они всегда по-настоящему смешны, в них обязательно есть нечто серьёзное, то, что сам автор называл «вторым дном».
Вот, например, песня «Поездка в город» (1969), написанная от лица простачка-провинциала (в прозе такое повествование называют сказ – вспомним хотя бы гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки»). Многочисленная родня снарядила его как «самого непьющего из всех мужиков» в столицу за товарами. Здесь поэт уже одним только выбором темы сразу попадает в больное место тогдашней жизни. На протяжении шестидесятых – восьмидесятых годов в стране всё больше и больше ощущался дефицит абсолютно всего – от мебели до мыла, которое в конце концов тоже исчезло с прилавков. Виной тому была «плановая» советская экономика с её жёсткой централизацией: цены на все товары устанавливал не рыночный спрос, а чиновники в высоких столичных кабинетах. Официальные цены были искусственно занижены (провозглашался рост благосостояния!), и в стране образовался негласный «чёрный рынок». Скажем, сборник стихов Ахматовой, на котором стояла государственная цена 70 копеек, вы могли купить у какого-нибудь «книжного жучка» (власть именовала их спекулянтами и боролась с ними) за… 50 рублей. Это половина тогдашней зарплаты начинающего учителя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: