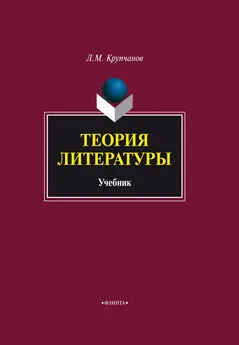Леонид Крупчанов - Н. В. Гоголь и Россия. Два века легенды
- Название:Н. В. Гоголь и Россия. Два века легенды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прометей
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4263-0006-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Крупчанов - Н. В. Гоголь и Россия. Два века легенды краткое содержание
Н. В. Гоголь и Россия. Два века легенды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В ноябре 1831 г. в письме Данилевскому летняя встреча с Пушкиным уже воспоминание о прошлом. «Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я», – пишет Гоголь почти с хлестаковским восторгом. «Прелесть невообразимую», «живую» «петербургскую природу» видит Гоголь в поэме Пушкина «Домик в Коломне», которую он считает повестью и называет «Кухаркой». Отмечает Гоголь у Пушкина и Жуковского русские народные сказки. Судя по замечанию о безразмерности, имеется в виду «Сказка о попе и работнике его Балде», которая «не то что «Руслан и Людмила», но совершенно русск[ая]>>. Как видно, Гоголь озабочен идеей русской народности, идя в этом отношении вслед за Пушкиным. Происходят изменения и в его творческом методе. Они также связаны с Пушкиным. Гоголь показывает специфику поэзии Пушкина, сравнивая ее с творчеством Н. М. Языкова. «Любовь до брака – стихи Языкова, они эффектны, огненны, и с первого раза уже овладевают всеми чувствами, – пишет Гоголь. – Но после брака любовь – это поэзия Пушкина: она вдруг обхватит нас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, развертывается и, наконец, превращается в величавый и обширный океан…», куда впадает и поэзия Языкова. В этой оценке Гоголь основывается на «Повестях Белкина», которые он вслед за Пушкиным называл «сказками», а также на поэме «Евгений Онегин», которую хорошо знал и постоянно цитировал в письмах. В связи с этим «Вечера на хуторе близ Диканьки» к 1832 г. становятся для Гоголя делом пройденным и в какой-то степени преодоленным. В повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», включенной Гоголем во вторую часть «Вечеров…», довольно отчетливо просматривается влияние пушкинских «Повестей Белкина» с их социальным и бытовым реализмом. Он мечтает о чем-нибудь «увесистом, великом, художническом». Помимо «яркой поэтичности», «высокое драматическое искусство» отмечает Гоголь в «Моцарте и Сальери» Пушкина, «чудесными» называет его стихи «Эхо», «Анчар», «Бесы», «Делибаш». Конечно, не без влияния «Маленьких трагедий» и «Бориса Годунова» Пушкина Гоголь обращается к драматургии. Но в отличие от Пушкина Гоголь разрабатывал в драматургии «науку веселости», и его стихией была комедия. В 1833–35 гг. он работает над первой своей комедией «Владимир 3-ей степени», оставшейся незавершенной. Тем не менее содержание комедии было хорошо известно Пушкину, который внимательно наблюдал за развитием гоголевского таланта. Видимо, еще на стадии замысла комедии 30 октября 1833 г. он пишет В. Ф. Одоевскому в Петербург из Болдина: «Кланяюсь Гоголю. Как его комедия? В ней же есть закорючка». В свою очередь Гоголь внимателен и заботлив в отношении к Пушкину: он оберегает его от излишних, с его точки зрения, забот. Сожалея, что Пушкин «транжирит» свою жизнь на балах, Гоголь в то же время одобряет отказ поэта от издания газеты «Дневник» в начале 1830-х гг. и альманахов «Гомозейки» В. Одоевского и «Рудого Панька» Гоголя, предложенных Пушкину Одоевским осенью 1833 г. Гению заняться ремеслом журналиста – «значит помрачить чистоту и непорочность души своей и сделаться обыкновенным человеком», – утверждает он. Гоголь защищает Пушкина от нападок его противников, чаще всего от Булгарина, Сенковского, Кукольника. Достается от Гоголя и его другу А. Данилевскому, уличавшему Пушкина в фальшивом байронизме. Он видит натянутость чувств скорее у Байрона, чем у Пушкина, в стихах которого любовь выражается сильно и просто. «Сильная продолжительная любовь проста, как голубица, – пишет Гоголь, характеризуя поэзию Пушкина, – то есть выражается просто, без всяких определительных и живописных прилагательных, она не выражает, но видно, что хочет выразить, чего, однако ж, нельзя выразить, и этим говорит сильнее всех пламенных красноречивых тирад».
Высоко оценивает Гоголь пушкинскую «Историю Пугачева», которую называет романом и считает «единственным в своем роде сочинением», изобразившем здесь «всю жизнь Пугачева». Под влиянием «Истории Пугачева» в 1833 г. Гоголь начинает работать над «Историей Малороссии», как он говорит над историей «нашей единственной, бедной Украины». В 1833 г. М. Максимович просит Гоголя похлопотать перед Пушкиным для издаваемого Максимовичем альманаха «Денница». Гоголь обещает «подгонять» Пушкина в его работе над стихами. Для самого Гоголя это год депрессии, «переворотов», уничтожения написанного.
Не исключено, что резко отрицательная оценка Гоголем своего цикла повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки», как и депрессия, явились результатом эталонного сопоставления своего творчества с произведениями Пушкина – столь недосягаемым был в его глазах уровень его художественности. Вероятно, Гоголь чувствует себя сильнее в историческом жанре. К этому времени Пушкин стал всерьез относиться к писательским возможностям Гоголя в историческом жанре. Четырьмя годами ранее, в письме к Гоголю 25 августа 1831 г. Пушкин писал: «Проект Вашей ученой критики удивительно хорош. Но Вы слишком ленивы, чтобы привести его в действие». В дневниковой записи 7 апреля 1834 г. Пушкин снимает свои сомнения. «Гоголь по моему совету начал Историю русской критики», – записывает он. На это замечание исследователи до сих пор не обращали должного внимания. А между тем это первое из трех пожеланий Пушкина (наряду с «Ревизором» и «Мертвыми душами»), к которым Гоголь не мог не прислушаться. Что же он «начал» в это время в жанре истории критики? Если учесть, что год спустя, в 1835 г., вышел в свет сборник Гоголя «Арабески», помещенные здесь соответствующие работы явились началом реализации планов Пушкина – Гоголя по Истории критики. Завершение же цикла литературно-критических статей Гоголя явились соответствующие разделы книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Вместе с тем, к этому времени Гоголем были написаны повести в манере, резко отличающейся от «Вечеров…». Гоголь следует за Пушкиным как ученик за учителем. Забыты романтические «Вечера…». Появились «Арабески», «Миргород» (1835), «Ревизор» (1836). В «Арабесках» основное содержание – статьи по вопросам истории и искусства. А три повести – «Записки сумасшедшего», «Портрет» и «Невский проспект» напоминают пушкинские повести. В сборниках «Миргород», а затем в «Петербургских повестях» завершилось становление Гоголя-реалиста по пушкинскому образцу: в повести «Шинель» он вышел на проблему «маленького» человека, поставленную Пушкиным в «Станционном смотрителе». Теми же самыми произведениями открывается и новое направление в русской литературе – реализм. Ориентируясь на «Повести Белкина» и в то же время стараясь придать своим повестям целостный структурный характер, Гоголь использовал при этом только средства композиционной организации. Создавая в течение 10 лет (1832–1842) окончательный вариант цикла повестей, он объединил в третьем томе всю беллетристику «Арабесок» («Записки сумасшедшего», «Портрет» и «Невский проспект») и дополнил их повестями «Коляска», «Рим», «Нос», «Шинель». Эти семь повестей, позднее названных «петербургским», не включали в себя ни одной повести из «Вечеров…» и «Миргорода», который автор считал продолжением «Вечеров…» (по тематике). Таким образом, в «Петербургских повестях» Гоголь вышел на «совершенно русскую» проблематику, которую считал главным достижением творчества Пушкина. Последние пять лет Гоголь уже работал без своего надежного советчика и консультанта.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: