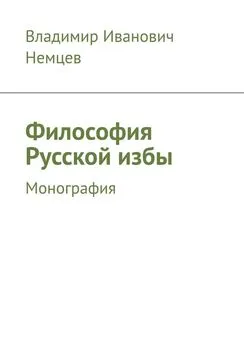Владимир Немцев - Вопросы о России. Свободная монография
- Название:Вопросы о России. Свободная монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448310287
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Немцев - Вопросы о России. Свободная монография краткое содержание
Вопросы о России. Свободная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И вот чувство патриотизма, потом гражданственности, стало посещать после войны тех убелённых сединами ветеранов. Они испытывали возвращение былых чувств в период бунта родовитых заговорщиков против императора, когда сочувствовали декабристам, а потом их одолевал стыд за позорную Крымскую кампанию… И пускай их жизнь была в общем неизменной, иные прочие могли бы дерзнуть на гражданские поступки, если б выдалась судьба…
Между тем «эпоха великих реформ» – после 1855 года – требовала деятельности на общественной ниве, а такую деятельность можно было проявить только в литературе и в естественной науке, на поприще которых сказывалось влияние проевропейских настроений.
Нельзя, впрочем, сбрасывать со счетов и обыкновенные хозяйственные заботы, в помещичьем имении ничуть не менявшиеся десятилетиями. Как важно, скажем прямо, нечастое, участие барина в управлении хозяйством, вспоминает один из них: «Грустная и уединённая моя жизнь в деревне заставила меня обратить всё старание о поправлении обветшалого моего усадбища, в коем один только господский дом приведён был в довольно порядочное состояние, прочее же строение было крайне плохо. <���…> Без хвастовства могу сказать, что я в течение пяти лет моего одиночества привёл Нежово в несравненно лучшее состояние, как в рассуждение самого усадбища, так и пашни. В 1792 году, когда я приехал в него, запашка состояла из сорока четвертей ржи, ныне же доведена до ста» 44 44 Хвостов В. Хозяйство помещика // Русский быт… С. 261—262.
.
Ничуть не менялись и другие условия жизни помещика, состоявшего на государевой службе. На рубеже между старой и новой Россией новым было только оживление литературы в России да журналистики, ставших могучими факторами общественной жизни, следствием чего молодёжью, особенно разночинной, овладевает страстное возбуждение. Ею распространяется выдвинутое писателями и критиками понятие о гражданине, о его правах и обязанностях.
Но в высшем сословии ничего не меняется уже сто лет, и как прежде, например, при пушкинском Петруше Гринёве, дворянин живёт интересами своего семейства, службы, сословия: «Отец мой умер, лишившись более двух третей своего состояния, и оставил нам долги. На службе ни я, ни брат мой никогда ничего не приобрели, а напротив всегда тратили своё. Начальствуя полком, я не только не извлекал из него выгод, как другие, но расходовал собственное достояние <���…>; когда же я оставил полк, тогда не было роты, которая не имела бы от 8 до 9 сот рублей артельных денег. Когда я сдал полк и должен был ехать в Италию для восстановления здоровья, у меня не было необходимых денег на поездку: я принужден был заложить мой петербургский дом и продать немногие драгоценные вещи, которые у меня были. Я имею долги, которых иначе уплатить не могу, как продавши какое-нибудь имение. Дохода я получаю от 20 до 22 тысяч рублей; но вы знаете, что это уже не рубли императрицы Елисаветы, и до какой степени всё у нас вздорожало. Поэтому, когда воспитание моего сына будет окончено и я привезу его для поступления на службу, я должен буду поселиться в деревне, дабы он (как и следует по справедливости) ни в чём не имел недостатка, тем более, что я обязан думать об уплате, из моего имения, приданого моей дочери. Могу заверить вас честью, что я не огорчён жалким положением, в которое приведено моё семейство. <���…> Это произошло вследствие несчастий <���…> ни мне, ни моим детям, ни потомству их не придётся краснеть, и лишь бы сын мой и дочь моя были благовоспитанны и честны <���…>, это будет наилучшим наследством, какое я могу им оставить. Я видел очень богатых людей, всеми презираемых и неспособных на какую-либо государственную службу. Я надеюсь, что этого не будет с моим сыном…» 45 45 Воронцов С., граф. Финансы большого барина // Русский быт… С. 263—264.
.
Читая эти и подобные им строки, нельзя не осознать, почему Россия не оказалась перед необходимостью преодоления чуждого наследия монголов, – потому что постоянно в своей истории пребывала в экстремале . Относительно спокойный XIX век дал возможность определиться в национальной самоидентификации, но противоречия западников и славянофилов не были преодолены полностью. Имперская Россия не осознала необходимости объединения в цивилизованной общности европейских народов, ей пока хватило собственного пространства бытия. Но это ведь не вечное состояние.
Маркизу де Кюстину такой порядок виделся неустранимым: «Нужно приехать в Россию, чтобы воочию увидеть результат этого ужасающего соединения европейского ума и науки с духом Азии; я нахожу союз этот тем более страшным, что продлиться он может ещё долго, ибо страсти, которые в иных странах губят людей, заставляя их слишком много болтать, – честолюбие и страх, здесь порождают молчание. Из насильственного молчания этого возникает невольное спокойствие, внешний порядок, более прочный и жуткий, чем любая анархия, ибо, повторяю, недуг, им вызванный, кажется вечным» 46 46 Кюстин А. де. Россия в 1839 году… Т. I. С. 221.
.
Разумеется, мало кто в России так считал, а многие видели и необходимость серьёзных изменений. И в самом деле, объективные условия для реформ тоже, вроде бы, были. Так отчего же так трудно и непоследовательно осуществлялись нововведения? Они бы всё равно состоялись, пускай медленно и искажённо. Что мешало?
Ох и многое! Кюстин зорко разглядел одну лишь сторону: «Реформа императора Николая затрагивает даже язык его окружения – царь требует, чтобы при дворе говорили по-русски. Большинство светских дам, особенно уроженки Петербурга, не знают родного языка; однако ж они выучивают несколько русских фраз и, дабы не ослушаться императора, произносят их, когда он проходит по тем залам дворца, где они в данный момент исполняют свою службу; одна из них всегда караулит, чтобы вовремя подать условный знак, предупреждая о появлении императора – беседы по-французски тут же смолкают, и дворец оглашается русскими фразами, призванными ублажить слух самодержца; государь гордится собой, видя, доколе простирается власть его реформ, а его непокорные проказницы-подданные хохочут, едва он выйдет за дверь… Не знаю, что больше поразило меня в зрелище сего громадного могущества – сила его или слабость!» 47 47 Там же. С. 292.
.
Ну, реформы Николая так и не осуществились, зато раздразнили социальные амбиции разночинцев, о которых было сказано: «Разночинец был новым человеком; это значит, что он не вынес из родной среды никаких воспоминаний, никаких традиций. Его психология была относительно свободна: она слагалась всецело под влиянием новых условий жизни, назревавших потребностей, нараставших интересов» 48 48 Воровский В. В. Литературно-критические статьи. М.: ГИХЛ, 1956. С. 340.
. А Георгий Федотов дополнил это представление своеобразной «испорченностью» разночинцев дворянским образованием: в гимназиях и университетах тот, мол, научился помещичьей лени – презрению к «чёрному» труду, и не выработал дисциплины мышления 49 49 Федотов Г. П. И есть и будет: Размышления о России и революции. Париж, 1932.
.
Интервал:
Закладка:



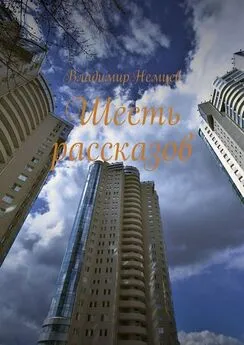



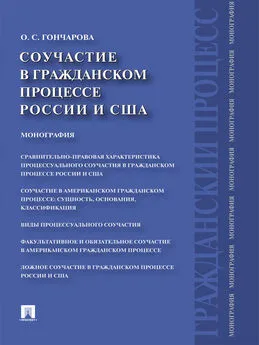
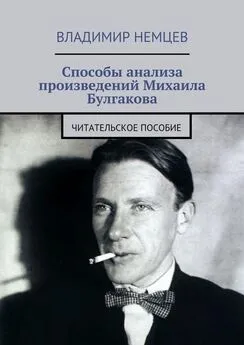
![Владимир Кузнечевский - Эпоха Владимира Путина [К вопросу об исторической миссии второго президента России]](/books/1097529/vladimir-kuznechevskij-epoha-vladimira-putina-k-vo.webp)