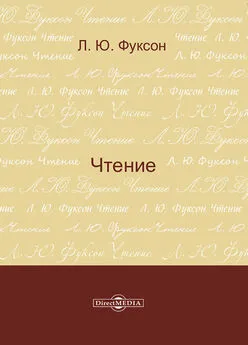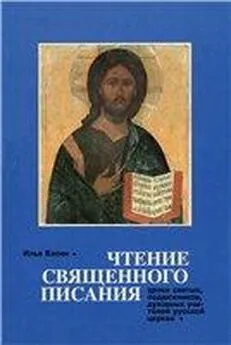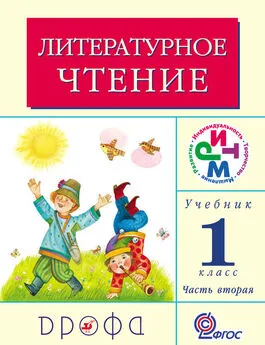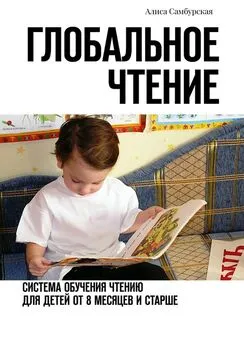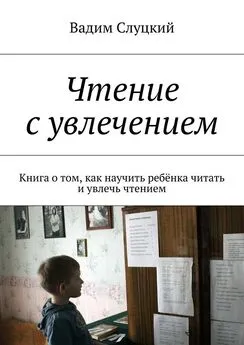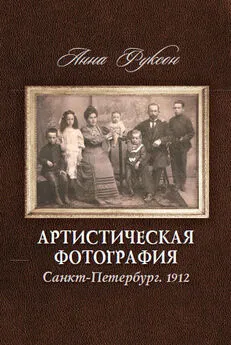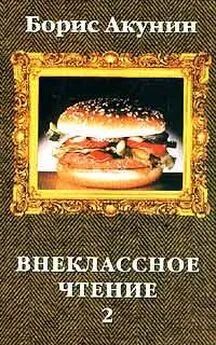Леонид Фуксон - Чтение
- Название:Чтение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:2014
- Город:Москва-Берлин
- ISBN:978-5-4475-2839-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Фуксон - Чтение краткое содержание
Чтение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Этот переход связан и с преодолённым сопротивлением врага (отбитый у поляков Новоград-Волынск). Образ шоссе, построенного «на мужичьих костях Николаем Первым», открывает конфликтные отношения социального и натурального аспектов существования, как и само состояние войны, – расколотости, немирности мира. Причём «социальные» характеристики вторгаются в само описание природы: у Волыни «ослабевшие руки», солнце сравнивается с отрубленной головой, закат – со штандартами; луна обхватила «синими руками» свою голову и т. д. Таким образом, можно говорить о нарушении границ социального и натурального, военного и мирного.
«Вчерашнее» вторгается в сегодняшний вечер, запах крови – в вечернюю прохладу. В том же ряду – «почерневший Збруч». Кроме того, выражение «запах …каплет» означает смешение различных состояний вещества. Вчерашняя битва продолжается, и как бы сама кровь «каплет» ещё по инерции. Аналогичная деталь в конце рассказа: «…синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца».
В описании покой смешивается с движением, а верх – с нижней зоной пространства: «Величавая луна лежит на волнах». Инерция битвы, времени смерти, наблюдается во сне героя, который не погружён в состояние покоя, а «кричит» и «бросается». Следы разрушения в доме соединяются с темой осквернения и кощунства. Дом – зона мира, куда вторгается война. Убийство отца на глазах дочери носит неслучайный, демонстративный характер, приобретая оттенок кощунства . К этому же ряду относится образ «черепков сокровенной посуды» рядом с человеческим калом, а также деталь перехода реки, когда «кто-то тонет и звонко порочит богородицу».
Нарушается граница не только между сном (покоем) и бодрствованием (движением), но и между жизнью и смертью, когда мёртвый дан вначале как «заснувший», рядом с которым кладут героя.
Первые слова рассказа «Начдив шесть донёс…», а последние – «мой отец». Налицо противоположные образы человека: как заменимой, исчисляемой боевой единицы и, напротив, неповторимой личности («где ещё на всей земле вы найдёте такого отца, как мой отец…»). Война дана не наряду с рассказом дочери об отце, а именно как отрицание, попирание семейных ценностей. Повторяющееся разрушение всех границ – средство выражения торжества состояния войны. Разрушенные границы между вещами мира означают его крушение (оба значения понятия «мир» совпадают).
Збруч разделяет в произведении кавалерийский путь и разорённый еврейский дом. Это как бы граница войны и мира, которая разрушена, так как на «зоне мира» – следы прошедшей здесь войны, стирающие разницу между вещами и людьми: распоротая перина и – разрубленное «пополам» лицо старика. Старик как раз хотел оградить свою дочь от зрелища смерти: «убейте меня на чёрном дворе…» – вывести смерть за пределы дома – зоны жизни.
Переход через Збруч кроме кавалерийского манёвра означает и событие познания – проникновения в трагическую суть происходящего. Зрелище смерти обычно для состояния войны, описанного в рассказе. Но изображается смерть не солдата, а мирного старика. Тем самым смерть (и сама война) лишается героического ореола. Она здесь сопряжена с бессмысленной жестокостью и кощунственным попиранием самих основ жизни.
Рассказ о старике не случайно принадлежит беременной женщине. Это как бы голос самой природы. Налицо образ творения, богородицы. Её поминальное слово последнее в рассказе. Это слово любви, составляющее оппозицию слову ненависти, порочащему богородицу.
Таким образом, в неслучайностях приведённых подробностей просматривается определённая внутренняя логика произведения, что и есть его смысл.
Прочитаем начало стихотворения Е. Баратынского «Череп»:
Усопший брат! кто сон твой возмутил?
Кто пренебрёг святынею могильной?
В разрытый дом к тебе я нисходил,
Я в руки брал твой череп жёлтый, пыльной!
Ещё носил волос остатки он;
Я зрел на нём ход постепенный тленья.
Ужасный вид! как сильно поражён
Им мыслящий наследник разрушенья! (…)
Имеет ли сколь-нибудь существенное значение то, что в произведении могила мертвеца названа его домом? Читатель может легко проскочить мимо этого выражения, будучи настроенным на метафоричность как привычный общий признак так называемой «поэтической речи». Однако художественное уравнение могила = дом имеет конкретное обоснование, связанное с ситуацией именно данного стихотворения, и, следовательно, обнаруживает свою неслучайность. Выражение «разрытый дом» не просто проводит аналогию между местом живого (домом) и местом мёртвого (могилой). Оно стирает границу между жизнью и смертью. Как раз нарушение этой границы и происходит в мире стихотворения Баратынского начиная с обращения «Усопший брат!..». Причём это нарушение дано как кощунственное («пренебрёг святынею») возмущение покоя («сна»), а сон здесь – такая же метафора смерти, как «разрытый дом» – могилы. «Мыслящий» герой заглядывает по ту сторону жизни, в «запретную зону». При этом осознание себя «наследником разрушенья» означает заглядывание в будущее как своё . Поэтому возмущение сна усопшего одновременно разрушает душевный покой живого человека. Смерть здесь внушает ужас не как что-то чуждое, а наоборот – как что-то родное. Отсюда обращение – брат .
В рассказе Чехова «Мальчики» описывается чаепитие только что приехавших на рождественские каникулы героев:
Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломлённые шумной встречей и всё ещё розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.
Многие подробности этого описания лишь на первый взгляд кажутся факультативными. Чтение, допускающее необязательность некоторых с виду малосущественных деталей, ищет художественный смысл где-то «за» ними и после них. Между тем a priori смысл текста весь сполна присутствует в каждой его «точке». Можем ли мы утверждать, что данный фрагмент приоткрывает смысл рассказа, как одна из тех дорог, которые все «ведут в Рим»? Согревающее действие чая кажется вполне обычным, однако борьба домашнего тепла и уличного мороза подчёркивает границу пути и дома, на которой и развёртывается коллизия произведения, спор авантюрных (далёких) и домашних (близких) ценностей. Всё описание дано с точки зрения любования, показывая предметы домашней утвари в солнечном свете, как бы приподымая их, что соответствует приподнятому настроению «шумной встречи». Однако такое «освещение» (и «освящение») домашнего быта вписывается в художественную логику всего рассказа: неслучайно дом, в который вместе с героями попадает читатель, охвачен предрождественскими хлопотами, отменяющими будничный характер происходящего. Домашний быт дан в рассказе с контрастно противоположных точек зрения – повествователя и мальчиков, для которых домашнее – синоним обыденного и скучного:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: