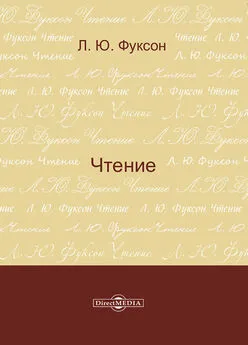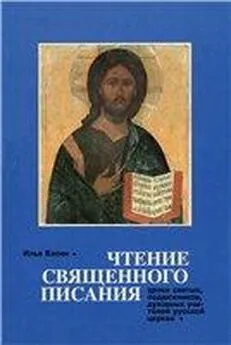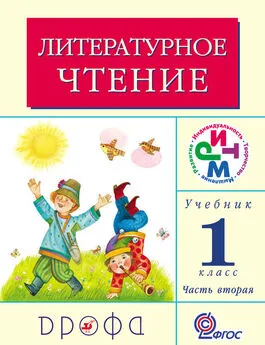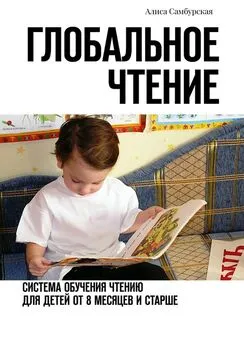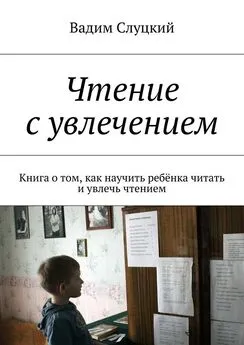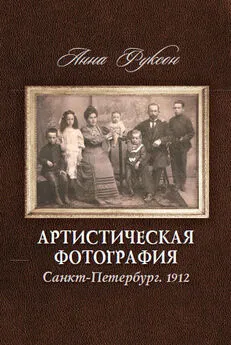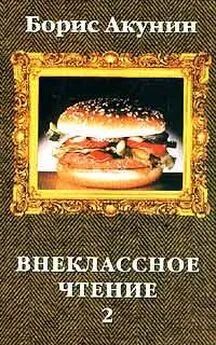Леонид Фуксон - Чтение
- Название:Чтение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:2014
- Город:Москва-Берлин
- ISBN:978-5-4475-2839-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Фуксон - Чтение краткое содержание
Чтение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте,
мостовая блестит, как чешуя на карпе,
на столетнем каштане оплывают тугие свечи,
и чугунный лев скучает по пылкой речи.
Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки,
проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи;
вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,
но никто не сходит больше у стадиона.
Настоящий конец войны – это на тонкой спинке
венского стула платье одной блондинки
да крылатый полет серебристой жужжащей пули,
уносящей жизни на Юг в июле.
Читателю, столкнувшемуся с загадочным «городком» в первом стихе, дана подсказка в виде сообщения места написания стихотворения – Мюнхен. Смерть, расползающаяся «по школьной карте», приобретает благодаря такому указанию историко-географическую конкретность: это прошедшая мировая война. Именно в Мюнхене начиналась политическая карьера Гитлера.
В первой строке осуществляется сближение реальности смерти, с одной стороны, и виртуального (ненастоящего) характера распространения войны «по школьной карте» – самой Европы и карты Европы. Жизнь и школа соединяются в этом образе как военное (взрослое, действительное) и мирное (детское, учебное). Происходит смешение масштабов глобальной истории и камерного урока, целого мира и провинциальности «городка». Пересечение в одном месте прошлого и настоящего, великого и малого задаёт смысловые параметры мира произведения Бродского.
Сравнение булыжников мостовой с чешуйками карпа перемещает читателя из у-личного (пуб-личного) пространства в личное, домашнее, кухонное . Граница между ними, хотя и стирающаяся сравнением («как»), является для стихотворения весьма существенной именно потому, что два времени (военное и мирное), о которых здесь идёт речь, как раз и различаются в зависимости от того, какой аспект жизни – общественный либо частный – становится главным, определяющим.
Образы «городка» связывают его прошлое и настоящее, но, вместе с тем, противопоставляют. «Столетний» возраст каштана – знак старости как присутствия давнего прошлого в настоящем. К этой характеристике примыкает оплывание тугих свеч, то есть отцветание (соцветия каштана имеют свечеобразную форму). Здесь старость и молодость представляют соответственно понятия «оплывают» и «тугие». Причём «работает» и буквальное значение слова «свечи»: оплывание свеч – их догорание , с которым и ассоциируется старость. Глобальный («столетний») масштаб времени совмещается с кратким временем горения свечи аналогично смешению пространственных масштабов (мира и школьной карты).
В контекст натурального времени, обозначенный столетним каштаном, вводятся социально-исторические характеристики, связанные с образом чугунного льва. Постарение соотносится здесь с уходом возраста «пылкой речи». Время страстей сменяется временем скуки. Однако очень важно здесь подчеркнуть общественный, сверхличный характер «пылких речей», по которым «скучает» чугунный лев – у-личная статуя, олицетворяющая власть, господство. Эпоха именно политических страстей ушла. Страсти уходят с улиц – общественного пространства – в дома, то есть на территорию частной жизни. Забегая вперёд, можно сказать, что торжество этой последней и есть «настоящий конец войны».
Окно в пятом стихе делит изображаемое пространство на внутреннее (домашнее) и внешнее (уличное). Однако эта граница дана сразу же как проницаемая – в виде прозрачной марли, через которую взгляд лирического героя проникает наружу. Такому нарушению пространственной границы соответствует смешение характеристик мирного настоящего и военного прошлого. «Выцветшая от стирки» марля – подробность домашнего мирного быта. Но выражение «ранки гвоздики» заставляет разглядеть в этой безобидной детали кровь, проступающую «сквозь» повязку. На один миг мирная «марля» превращается в бинт раны, полученной на прошлой войне. Этот миг воспоминания делает проницаемой границу времени. В одно высказывание сводятся очень разные темпоральные планы. Выцветание «от стирки» открывает неспешный ход цикличного домашнего времени: стирка здесь не однократное, а регулярно повторяющееся событие. Слово же «ранки» ассоциируется с исторически конкретным моментом линейного, необратимого времени, складывающегося из неповторимых, экстраординарных событий.
Вместе с тем, такое пересечение примет различных эпох демонстрирует их взаимную чуждость. Прошлое и настоящее говорят на разных языках. «Пылкая речь» – патетика «века героев», то есть времени катаклизмов большой Истории, соответствующая серьёзности события действительного «расползания» смерти. Эта патетика, охватываясь контекстом современной мирной жизни и частных «маленьких» историй, опредмечивается как стилистический анахронизм. Современный язык – язык иронии , развенчивающей серьёзность, то есть действительный, актуальный характер, события смерти. «Мирные» образы, соседствуя с «военными» воспоминаниями, лишают эти последние высокопарности: как само по себе серьёзное событие войны, «расползания» смерти охватывается контекстом школьного урока и, тем самым, деактуализуется, оттесняется в прошлое, так и раны войны превращаются в «ранки гвоздики». На месте медицинской страшной подробности проступающей крови (границы жизни и смерти) – спокойная красота цветка. Сами уличные образы, увиденные «сквозь оконную марлю», оказываются соразмерными домашней, бытовой точке зрения: «кирха» с её готическими «стрелками» рифмуется со «стиркой».
Стадион, у которого «никто не сходит больше» и мимо которого «дребезжит» трамвай, воспринимается здесь не как место спортивных зрелищ, а как опустевшее пространство каких-то пропагандистских акций, «пылких речей». Пассажиры трамвая едут мимо пустого публичного пространства по личным делам. Время «пылкой речи» – это и есть «время оно», о котором напоминает дребезжание трамвая, похожее на старческий голос. Абсолютная эпическая дистанция, отделяющая прошлый «век героев» от современного «прозаического состояния мира», дана здесь не в серьёзной патетической форме, а иронически – «время оно». «Настоящее» расставание с прошлым – лишение его серьёзности.
Последние четыре стиха представляют собой нечто вроде подведения итога благодаря обобщающей интонации. Выражение «настоящий конец войны…» звучит полемически и отграничивает всё последующее от ненастоящего, мнимого конца войны. Эта полемика расширяет смысл понятия «война», воспринимающегося здесь не просто как историческое событие, а как перевес значимости общего над частным. Поэтому «настоящий конец войны» – это не победное завершение сражений или не подписание акта о капитуляции побеждённой армии, а выдвижение на передний план отодвинутых военным временем ценностей частного, интимного существования.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: