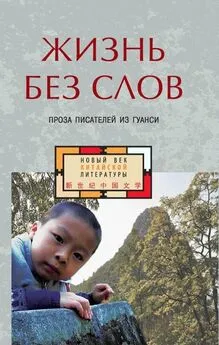Владимир Бибихин - Слово и событие. Писатель и литература (сборник)
- Название:Слово и событие. Писатель и литература (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91244-019-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Бибихин - Слово и событие. Писатель и литература (сборник) краткое содержание
Переиздание книги «Слово и событие» дополнено приложением с малоизвестными или ранее не публиковавшимися работами, а также незаконченным авторским сборником «Писатель и литература», состоящим из работ разных по жанру и времени написания. Что такое литература – сообщение? донос? или сладкий сон, навеянный «счастливо гнущейся строкой»? Зеркало писателя или единственный герой на сцене? Беспредельны ли возможности гибкого, податливо льнущего к вещам слова? Или именно эта гибкость кладет предел зоркости писателя, и последний шаг слова к правде, самый трудный, уже не литература?
Слово и событие. Писатель и литература (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К чему тут пробивается Потебня? К какой свободе от языка, даримой самим же языком? Мы в нетерпении, чуть ли не в раздражении. Мало было метаний от опоры на слово к опоре на вещи. Теперь нам вручили откровенное противоречие: слова нет в «порыве мысли» – и оно всё равно есть, создает или усиливает этот порыв.
Мы не можем следовать за Потебней, если сами не думали о том же, если приоткрывающийся здесь пейзаж пусть отчасти не прояснился для нас по крайней мере в главных вопросах и загадках. Настойчивые попытки Потебни разобраться в клубке мысль-вещь-мир-слово-язык достойны того, чтобы упорство проявили и мы.
Пока до этого далеко. Пока гадание на слове остается главным занятием «постмодерна», Хайдеггер и Витгенштейн, через которых только и можно было бы теперь читать Гумбольдта и Потебню, сами еще не прочитаны. Простая мысль, что язык не наше дело, еще редко у кого встречает спокойное согласие [20] Как понятое и познанное, так же неизвестное, скрытое, несуществующее и немыслимое охвачены «логикой» (Витгенштейн) как именно такие. Они открыты именованию. Слово не описывает бытие и небытие, а отождествляет их с ними самими.
.
1989
Слово и событие
Философия языка, напоминающая о настоящем весе слова, нужна не чтобы вернуть ценность нашим речам, это невозможно, а чтобы не принять нашу собственную нищету за нищету слова. Наш язык задевает нас больше чем мы думаем. Принять от него обиду, когда он нас разоблачает, большая удача. Говорить наивно и беспомощно горькая, но достойная человека участь. И молчащий мыслитель тоже мыслитель. По-настоящему плохо бывает когда от страха показаться нелепым или замолчать человек изменяет слову, каким всегда так или иначе звучит его разумное существо, и становится изготовителем текстов. Текст тратит вещую стихию на поделки, единственная цель которых отгородиться от правды и оттянуть встречу с ней. Подделки виновны в почти нежилом состоянии теперешнего языка как среды человеческого обитания. Физическая теснота только проекция нашего мыслительного хозяйства. Наш мир никогда не бывает лучше нашей речи.
Поделки не просто захламляют среду. Подделывая событие слова, они приучают во всём видеть лишь текст. Когда всё превратилось в текст, можно ли еще вернуться к слову-событию?
Философия поступка
На нескольких десятках страниц, которые уцелели в архиве Михаила Михайловича Бахтина как часть несохранившегося сочинения, «посвященного проблемам нравственной философии», и были впервые напечатаны спустя почти 65 лет после их написания [21] М. М. Бахтин. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник, 1984-1985. М., 1986, с. 80–160.
, автор, которого мы знаем преимущественно как литературоведа, строит «первую философию», которую он вразрез с расхожими представлениями, но в согласии с интенцией аристотелевской мысли понимает как феноменологию человеческого поступка в историческом мире. Его явная и неявная зависимость от бергсоновского интуитивизма и от ее критики у Николая Онуфриевича Лосского, от гуссерлевской феноменологии, от риккертовской философии ценностей, от персонализма Франца Розенцвейга, от бердяевского творческого акта, остывающего в продуктах культуры, замеченная единонаправленность с тем, что делал тогда Хайдеггер (для понимания недоговоренностей Бахтина можно привлекать хайдеггеровскую аналитику присутствия, бытия-вот), – эти поводы для сопоставительного исследования не должны заслонять то более важное обстоятельство, что мысль Бахтина отвечает за себя. Она захватывает не столько своими находками, сколько сжатой энергией, признаком долгого дыхания. Залогом того, что мысль тут стоит на собственном пути, русский философский язык Бахтина. Путь, как приходится судить по его опубликованным работам, остался не пройден до конца. Впрочем даже поздние записи 1970–1971 годов оказываются разметкой всё того же одного пути.
Бахтин вводит резкую, бердяевскую по тону границу между живым уникальным событием, актом свершающегося бытия, и плоским пространством объективированной культуры. Связь между миром жизни и миром культуры односторонняя: событие свершаемого бытия есть творческое деяние, способное выплеснуть из себя художественные образы и научные построения или пролить на них свет исследовательского понимания, тогда как в создаваемых культурных содержаниях выветрена единственность уникального переживания. Пути от построек культуры обратно к неповторимому поступку их создания уже нет.
Поступок больше чем шаг из единственности переживания к объективации. Поступок полон собой и не обязательно нуждается в проявлении. «Всё, даже мысль и чувство, есть мой поступок» [22] М. М. Бахтин. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник, 1984-1985. М., 1986, с. 85.
. Поступком будет и жертвенный отказ от себя и упускание себя в бездействии. Бахтинский поступок больше чем поведение субъекта. Когда есть поступок, в субъекте при нем уже не остается по существу строгой необходимости. На вопрос, кто поступает, надо отвечать: поступок не чей, а кто. Не поступок при субъекте как сказуемое при подлежащем, а человек есть – если вообще он есть – поступок. Субъект при поступке собственно говоря нахлебник. Не я готовлю и произвожу поступок, а поступок как начальное событие дает мне быть. Жизнь есть «ответственное поступание» [23] М. М. Бахтин. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник, 1984-1985. М., 1986, с. 88.
. «Только изнутри действительного поступка, единственного, целостного и единого в своей ответственности есть подход и к единому и единственному бытию в его конкретной действительности» [24] М. М. Бахтин. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник, 1984-1985. М., 1986, с. 102.
. «Единственное бытие-событие… не мыслится, а есть» [25] М. М. Бахтин. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник, 1984-1985. М., 1986, с. 91.
.
Всего проще возразить: поступок не может быть кто, у него нет глаз чтобы видеть, ушей чтобы слышать, рук чтобы действовать. – Да, но человек видит не потому что у него есть глаза, слышит не потому что у него есть уши и действует не потому что есть руки. Человек будет всё просматривать, всё прослушивать, бездействовать среди непрестанной активности, пока не шагнет навстречу миру, не отважится на то, что Бахтин называет поступком. Только так он выходит из «бессмыслия» [26] М. М. Бахтин. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник, 1984-1985. М., 1986, с. 95.
, начинает видеть и слышать. Видит, слышит и действует человек не в своей биологии, а в своей биографии. «Поступок […] в […] своем свершении как-то знает [!], как-то имеет единое и единственное бытие жизни, ориентируется в нем […]. Изнутри поступок видит (!) уже не только единый, но и единственный конкретный контекст, последний контекст, куда относит и свой смысл, и свой факт, где он пытается ответственно осуществить единственную правду и факта и смысла в их единстве конкретном» [27] М. М. Бахтин. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник, 1984-1985. М., 1986, с. 102–103.
. Субъект и сознание – тени, которые отбрасывает от себя (но может и не отбрасывать?) поступок как событие, как акт принадлежности к месту всякого смысла, т. е. к миру в его истории. Только «изнутри поступка» и больше ниоткуда «ответственно поступающий знает […] свет, в котором […] видит и […] людей […] и небо, и землю […] и время […] и ценность […] этих людей, этих предметов» [28] М. М. Бахтин. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник, 1984-1985. М., 1986, с. 104.
.
Интервал:
Закладка: