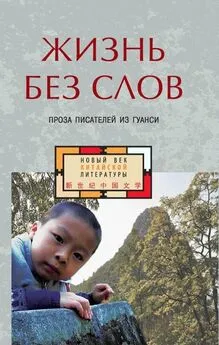Владимир Бибихин - Слово и событие. Писатель и литература (сборник)
- Название:Слово и событие. Писатель и литература (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91244-019-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Бибихин - Слово и событие. Писатель и литература (сборник) краткое содержание
Переиздание книги «Слово и событие» дополнено приложением с малоизвестными или ранее не публиковавшимися работами, а также незаконченным авторским сборником «Писатель и литература», состоящим из работ разных по жанру и времени написания. Что такое литература – сообщение? донос? или сладкий сон, навеянный «счастливо гнущейся строкой»? Зеркало писателя или единственный герой на сцене? Беспредельны ли возможности гибкого, податливо льнущего к вещам слова? Или именно эта гибкость кладет предел зоркости писателя, и последний шаг слова к правде, самый трудный, уже не литература?
Слово и событие. Писатель и литература (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И еще загадка. В книге В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка», в которой Бахтин по крайней мере участвовал, язык хотя и назван материалом, но вовсе не в смысле «слуги», а в смысле необходимой среды «реализации» сознания [57] В. Н. Волошинов. Марксизм и философия языка. Л., 1930, с. 15.
. Больше того: «Сознание […] только жилец, приютившийся в социальном здании идеологических знаков». С одной стороны, «не переживание организует выражение, а наоборот, выражение организует переживание, впервые дает ему форму». С другой стороны, эта форма сильнее всякого содержания. «Язык […] внутреннюю личность […] создает […] Не слово является выражением внутренней личности, а внутренняя личность есть выраженное или загнанное внутрь слово» [58] В. Н. Волошинов. Марксизм и философия языка. Л., 1930, с. 86.
. Причем имеется в виду вовсе не то что слова определенного языка своими смыслами, взаимными отношениями и пожалуй еще звучаниями как-то внедряются в сознание и начинают его формировать. От такой мифологизации языка Бахтин далек. Он знает, что «речевое сознание говорящих […] с формой языка, как такой, и с языком, как таким, вообще не имеет дела […] Мы […] никогда не произносим слова и не слышим слова, а слышим истину или ложь, доброе или злое, важное или неважное, приятное или неприятное и т. д.» [59] В. Н. Волошинов. Марксизм и философия языка. Л., 1930, с. 71.
.
Проблема не в том, что тезисы «язык создает внутреннюю личность» и «сознание не имеет дела с языком как таковым» у Бахтина плохо вяжутся между собой. Противоречия тут на самом деле еще нет. Язык создает личность именно тем, что, исподволь ускользая в исполняемом им указывании, оставляет человека наедине уже не с окружением, с каким имеют дело в природе живые существа, а с миром истины и лжи, добра и зла, сути и несути, родного и чужого. Мир выходит в присутствие благодаря языку, который исчезает именно потому что отсылает к его захватывающему богатству. Благодаря отсылающему ускользанию языка совершается то, что Бахтин называет загадочно оброненным словом «событие мира» [60] М. М. Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности… с. 174.
.
Летуче отсылающая стрелка имени, знак блеснувшей ясности, приоткрывающей положение вещей, неприметно несет на себе всю философскую и поэтическую мысль. Бахтин несомненно видел это, когда писал что «единое полное слово может быть правдой». Знак указывает на вещь и исчезает в ней, как убираются леса, когда здание окончено, или вернее как искание тонет в находке, чтобы снова в ней ожить. Построенное здание может стоять уже и без лесов; находка поощряет к новому исканию. Слово пушкинского стихотворения «убирается», оставляя вместо себя «и город, и ночь, и воспоминания, и раскаяние» [61] М. М. Бахтин. Проблема содержания, материала и формы… с. 66–67.
, суть слова в отводе глаз от себя к сути дела. Суть дела никогда не дана в готовом виде, она проявляется по мере того как мы даем ей слово. Она не дает о себе знать если мы не идем ей навстречу. И мы не можем идти вслепую. «Убирается» слово как «момент художественного восприятия», восстает то же слово того же пушкинского «Воспоминания» как почва толкования, осмысления, размышления, и снова и снова будет восставать возрождаясь, потому что показывающей силе слова нет конца. Живет веками всё-таки слово как событие мира, а не «художественное восприятие».
Бахтин мог бы это тоже сказать, почти сказал, но говорит другое: «Все словесные связи […] превращаются во внесловесные архитектонические событийные связи» [62] М. М. Бахтин. Проблема содержания, материала и формы… с. 69.
. И это при том что художник идет по Бахтину же путем «имманентного усовершенствования» языка [63] М. М. Бахтин. Проблема содержания, материала и формы… с. 68.
. Язык, тем более в своей «усовершенствованной» сути, действительно «освобождает» от себя, больше того, он и есть освобождение нас для сути дела. Но именно потому что «событийные связи» присутствуют для нас благодаря незаметному и ненавязчивому указыванию, в котором суть языка, самоустранившееся слово неслышно продолжает сопутствовать им. Они не «внесловесны». Слово и дело в них слитны [64] Ср. выше конец статьи «В поисках слова» об А. А. Потебне.
.
В другом месте Бахтин и говорит, что есть «слово как средство (язык) и слово как осмысление», причем «осмысливающее слово принадлежит к царству целей […] как последняя (высшая) цель» [65] М. М. Бахтин. Заметки // Литературно-критические статьи…, с. 521.
. Почему в своей «эстетике словесного художественного творчества» он выбирает забыть о том, что слово не обязательно материал и в своей сути даже никогда не материал, а показывание?
Скорее всего потому, что на дне современного художественного творчества, исследуемого его эстетикой, того сущностного слова, которое «больше меня самого» [66] М. М. Бахтин. Заметки // Литературно-критические статьи…, с. 526.
, он не видит. Там вообще нет слова. Там тишина безмолвия. «Первичный автор» в человеке нового времени «облечен в молчание». Он говорил, когда мог вещать «прямым словом» авторитета. Но вещие пророки ушли из жизни [67] М. М. Бахтин. Из записей 1970-1971 годов // Эстетика словесного творчества…, с. 336.
. Тот первичный автор был natura non creata [68] М. М. Бахтин. Из записей 1970-1971 годов // Эстетика словесного творчества…, с. 353.
, несотворенная природа. Конечно, такая природа не ограничена местами и сроками и поэтому вовсе не обязательно должна уйти вместе с пророками. Она будет присутствовать в молчании. С тех пор, как на земле нет больше места для вещих пророков, их место занял писатель. Писателю неуместно вещать. Первичный автор, говорящий только прямым словом, через человека-писателя таким, а значит и никаким словом говорить не может.
Молчит только первичный автор. В писателе, вторичном авторе, затаенное молчание на месте невозможного прямого слова не слышно за косвенной речью.
Древнегреческий язык образовывал от слова εἴρω, означавшего «говорить», но употреблявшегося в прозе только в будущем и прошедшем времени, причастие εἴρων со значением «человек, который говорит», т. е. всего лишь проговаривает речи, не обязательно полностью в них участвуя. Εἰρωνεία это речь, слово которой не выступает прямым свидетельством мысли. Всю словесность нового времени можно назвать по Бахтину такой иронией. Мысль в своей глубине погружена в молчание. Знаком того молчания звучит ироничное, оговорочное, иносказательное слово новых языков [69] М. М. Бахтин. Из записей 1970-1971 годов // Эстетика словесного творчества…, с. 336.
.
Ирония не просто сопутствует слову. Слово всего нового литературного процесса – ирония в широком смысле, косвенная речь, заранее настроенная на непрямоту. Пишущему субъекту нового времени таким образом опять же не удается своими силами создать полновесное событие. Настоящим событием осталось молчание первичного автора. Вся косвенная речь лишь посильное истолкование того молчания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: