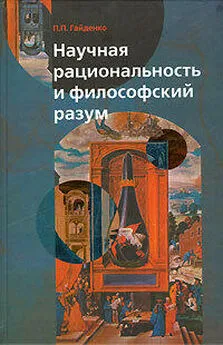Пиама Гайденко - Научная рациональность и философский разум
- Название:Научная рациональность и философский разум
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-89826-142-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пиама Гайденко - Научная рациональность и философский разум краткое содержание
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся проблемами философии, науки и культуры.
Научная рациональность и философский разум - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что же представляет собой деятельность вечной неподвижной сущности? Поясняя, что жизнь ее – самая лучшая, какая у нас бывает очень короткое время» (Метафизика, XII, 7, 1072b 14–I5), а умозрение – самое приятное и самое лучшее, философ заключает, что деятельность божественной сущности есть мышление (умозрение). Именно мышление есть чистая деятельность и высшая жизнь. «Жизнь поистине присуща ему, ибо деятельность ума – это жизнь, а Бог есть деятельность, и деятельность его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь» (Метафизика, XII, 7 1072b 26–28).
Именно непрерывность и вечность божественного существования, есть, по Аристотелю, первоисточник вечности и непрерывности существования и движения первого неба, а соответственно и мира.
Аристотель далее ставит вопрос о том, что является предметом мышления высшего ума. Божественный ум может иметь предметом мышления как другое, так и самого себя; но поскольку он, по самому его понятию, должен мыслить наилучшее, а наилучшим является он сам, то, по Аристотелю, он мыслит сам себя. «Поскольку, следовательно, постигаемое мыслью и уж не отличны друг от друга у того, что не имеет материи, то они будут одно и то же, и мысль будет составлять одно с постигаемым мыслью» (Метафизика XII, 9, 1075a 2–4). Только в том случае, если мыслимое и мыслящее совпадают, разумной сущности оказывается присуще благо. Мышление о мышлении – вот содержание деятельности того, кого именуют благом. В отличие от божественной сущности, мышление конечных разумных существ в основном направлено на другое; так, чувственное восприятие и мнение всегда суть знание о другом. И только в умозрительном знании, к которому стремится философия, предметом познания становится определение и мышление.
Аристотель в «Метафизике» доказывает, что без допущения сверхприродной – бестелесной и вечной – сущности, которая есть непрерывная деятельность мышления, направленная на саму себя, невозможно объяснить существующий миропорядок. Ни натурфилософы, ни Платон и пифагорейцы, по убеждению Аристотеля, такого объяснения дать не могут. «Если помимо чувственно воспринимаемого не будет ничего другого, – пишет Аристотель, имея в виду учения большинства натурфилософов – досократиков, – то не будет ни (первого) начала, ни порядка, ни возникновения, ни небесных явлений, а у каждого начала всегда будет другое начало, как утверждают те, кто пишет о божественном, и все рассуждающие о природе. А если (помимо чувственно воспринимаемого) существуют эйдосы или числа, то они ни для чего не будут причинами, во всяком случае не для движения» (Метафизика, XII, 10, 1075b24–28).
Сущее, как выражается Аристотель, не желает быть плохо управляемым; а хорошее управление требует единого начала. Тут онтология греческого философа полностью совпадает с его этическими и политическими воззрениями: «нет в многовластии блага» – заключает он словами Гомера двенадцатую книгу Метафизики, подводящую итог анализу проблемы сущности и бытия.
Среди интерпретаторов Аристотеля нет единства в понимании высшей сущности в ее отношении к миру. Так, например, Э. Целлер считает, что поскольку Бог у Аристотеля есть неподвижная цель, к которой устремлено все сущее, то, не будучи причиной действующей, он лишен всякой жизненной силы. Напротив, Э. Рольф выдвигает тезис, что вечный двигатель есть не только цель, но и действующая живая сила; ибо в противном случае невозможно было бы объяснить движение, поскольку ничто конечное не является деятельным само по себе. Нужна, по Рольфу, бесконечная движущая сила Бога, чтобы привести в движение небосвод и обеспечить непрерывность этого движения 42.
В текстах Аристотеля по этому вопросу мы находим только высказывание, что высшая сущность движет как предмет желания и мысли, как предмет любви, т. е. что она движет как целевая причина. Однако сам Аристотель в то же время подчеркивает, что вечный неподвижный двигатель есть лучшая и самая активная жизнь, ибо духовная жизнь – выше и могущественнее, чем жизнь, связанная с материей: не случайно последняя, как говорит Аристотель, может быть и не быть, а первая – непрерывна и вечна.
Мне представляется, что мыслителю, у которого целевая причина стоит выше всех остальных (и в основном совпадает с причиной формальной), мыслителе, который видит в духовном начале (yме) источник всякой жизни и движения, нет надобности приписывать Богу особую движущую силу: желание и влечение – это и есть та сила, которая движет все то, что имеет душу, а стремление к благу – все то, что имеет ум. Поэтому, если можно так выразиться, цель по своему воздействию мощнее всякой другой причины, ибо цель есть причина для разумного сущего, которое выше – и, стало быть, могущественнее неразумного и тем более – лишенного души.
Только в новое время, когда благо нередко стали представлять себе лишенным всякой силы, а в силе видеть начало злое (а значит с античной точки зрения, небытие), когда бытие и благо, движущая сила и цель стали мыслиться как разные вещи, могла возникнуть вышеупомянутая проблема.
7. Сущее (бытие) как таковое (to on h on)
Мы отвели так много места анализу понятий бытия и сущности, потому что эти понятия стоят в центре внимания Аристотеля и составляют основной предмет исследования в «Метафизике». Вопрос: «что такое сущее (бытие) как таковое?» составляет смысловой стержень этой работы. «Даже по сравнению с Платоном, – замечает А. Л. Доброхотов, – Аристотель представляется онтологом по преимуществу» 43. Бытие, или сущее Аристотель рассматривает – в рамках традиции, идущей от элеатов до Платона – как начало самотождественности и постоянства: быть – значит длиться, сохраняться, не прерываться, не меняться. Именно такова сущность: она способна существовать сама по себе и быть носителем противоположностей, не теряя при этом самотождественности именно как сущность. Только сущность имеет определение, которое отвечает; на вопрос: «что есть это?», а потому только сущность мыслима и познаваема.
У Аристотеля в «Метафизике» наряду с вопросом «что есть это?» ставится и вопрос «что значит «есть»?». (см., например, Метафизика, VII, 17, 1041а 23). Спрашивая, что есть это, мы ищем сущность вещи; спрашивая же, что значит «быть», мы ищем «сущее» (бытие) как таковое». Аристотель, таким образом, дает основание для различения проблемы сущности) (essentia) и существования (existentia); некоторые исследователи полагают, что вопрос о «сущем как таковом» как раз и ставит проблему существования» 44. Обсуждая проблему сущего как такового, Аристотель, как пишет И. Дюринг, «отдает себе отчет в том, что он стоит перед проблемой одновременно гносеологической и онтологической; он признает, что существует нечто «более сущее» (VII, 3, 1029 а 6 – proteron kai malconon), потому что его бытие является предпосылкой существования другого. Некоторым образом это означает возвращение к платоновскому ontoz on 45. И в самом деле, высшая сущность Аристотеля – чистая актуальность, мыслящее себя мышление – играет в его учении ту же роль, какую у Платона исполняет идея блага – высшая среди идей, которая скорее есть «начало» идей, нежели идея (как у пифагорейцев Единое есть начало числа, а не число). А что именно в вечном двигателе Аристотель видит сущее как таковое, составляющее предмет первой философии, свидетельствует текст VI книги «Метафизики»: «Первая философии… исследует самостоятельно существующее и неподвижное…» (Метафизика, VI, 1, 1026а 16–17). И тут же поясняется, что первая философия – это наука о сущем как таковом: «Если есть некоторая неподвижная сущность, то она первее (тех, которые изучает наука о природе. – П. Г. ) и учение о ней составляет первую философию… Именно первой философии надлежит исследовать сущее как сущее – что оно такое и каково все присущее ему как сущему» (Метафизика, VI, 1, 1026а 29–32).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: