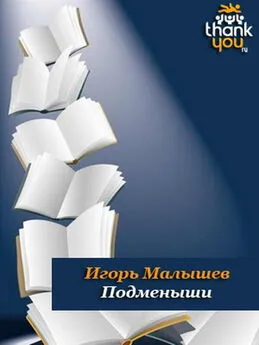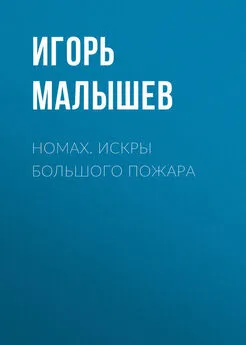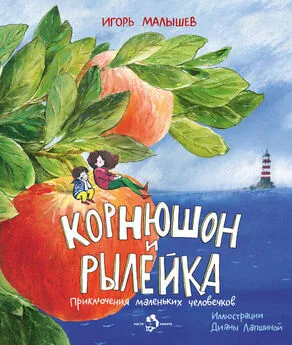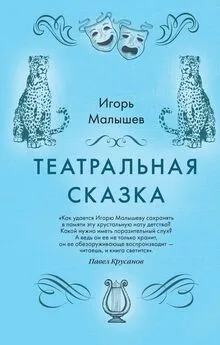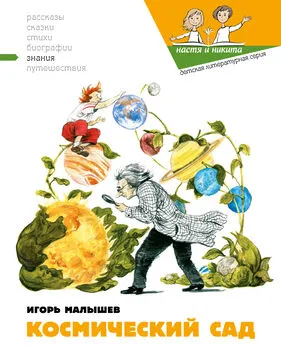Игорь Малышев - Золотой век советской эстетики
- Название:Золотой век советской эстетики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Пробел-2000»
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98604-105-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Малышев - Золотой век советской эстетики краткое содержание
Издание ориентировано на специалистов в области эстетики и философии.
Золотой век советской эстетики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но все ли совершенное прекрасно? «Нет» – категорично заявляли оппоненты «природников» – «общественники», приводя убедительные аргументы, во многом повторяющие доводы Н. Чернышевского против концепции Г. Гегеля. Они утверждали общественный характер эстетических свойств, а значит их социокультурную относительность (5; 11; 13; 25; 58).
К началу 60-х годов «общественники» взяли на свое теоретическое вооружение принципы аксиологии (до этого развивавшейся в рамках неокантианских школ западной философии), интерпретировав их в соответствии с основными положениями марксизма. Эстетическое теперь понималось ими как особое ценностное отношение, а значит зависимое как от объективных свойств явления, так и от социально обусловленных потребностей человека. Будучи едины в этом общем принципе, «аксиологисты» расходились в своих мнениях по более конкретным, но весьма существенным вопросам. Согласно М. Кагану (в большей или меньшей степени его позицию разделяли М. Афасижев, А. Илиади, Н. Коротков. А. Пирадов, В. Тугаринов (2; 22; 31; 53;:65) в эстетическом ценностном отношении явления действительности участвуют только со стороны своей формы, а человек – как личность – со стороны своей духовной потребности в восприятии и творчестве эстетически значимой формы, которая конкретизируется в идеале. Эстетическое в их понимании есть отношение объективного (свойств оцениваемого предмета) и субъективного (идеала как критерия оценки). Совпадение реального и идеального порождает прекрасное, а различные модификации их несовпадения приводят к другим эстетическим явлениям. То есть акт оценки конституирует эстетическую ценность явления. (23).
Такое понимание эстетического базировалось на общей концепции ценности, согласно которой ценность в любом случае есть отношение объективных свойств предмета к духовным потребностям и идеалам человека: «…носитель ценности предстает перед субъектом именно как объект, который он соотносит со своими духовными потребностями, идеалами, устремлениями»(24,79) Прекрасное в концепции М. Кагана и его единомышленников отождествлялось с красотой формы. Тем самым они продолжали и развивали в материалистическом варианте традицию, идущую от софистов Античности через Д. Юма и Им. Канта с его теорией «чистой красоты». Значение этой традиции в том, что она акцентировала действительно наиболее специфическое свойство прекрасного и вообще эстетических ценностей. Вне особого отношения к чувственно воспринимаемой форме явлений нет собственно эстетического отношения к ним. Прекрасное не существует без особой ценности красоты его формы. Нужно согласиться и с тем, что ценность красоты складывается в отношении к особой духовной потребности, а именно, потребности сознания в восприятии и творчестве определенного типа форм, и потому имеет объективно-субъективный характер. Развивая идеи своих предшественников, советские эстетики в соответствии с марксистской методологией особое внимание уделили социальной обусловленности как субъекта, так и объекта эстетической ценности красоты. Следуя за Г. Плехановым, они (прежде всего К. Кантор и Л. Безмоздин (26; 3; см. также: 41) обосновали идею о формировании «социально-конкретной формы целесообразности» предметной среды, отражением которой становится эстетический эталон формы, конкретизирующий содержание духовной потребности в красоте. Тем самым теория красоты, которая еще у Канта имела внеисторический характер, приобрела возможность объяснения социодинамики эстетических стилей.
Однако, правомерно ли сведение объекта эстетической ценности исключительно к форме явления и отождествление прекрасного с красотой формы? Оппоненты этой точки зрения выдвинули аргументы, с которыми нельзя не согласиться. Так, В. Толстых, критикуя концепцию М. Кагана, писал: поскольку в эстетическом «мы имеем дело всегда с «формой» проявления сущности и «образом» какого-то действия или поступка, содержательные качества и характеристики последних (полезные, нравственные и т. д.) тоже становятся объектом эстетического отношения и входят в состав эстетической ценности»(63,351; см. также: 46; 48).
Поэтому логично, что параллельно с «кагановской» сформировалась концепция эстетической ценности, объектом которой выступает явление в целом, в единстве его содержания и формы. Соответственно, и субъект этой ценности был осмыслен уже по иному. Согласно Ю. Бореву, А. Еремееву, Л. Зеленову, А. Молчановой, Л. Столовичу и ряду других авторов (7; 18; 19; 46; 59) эстетическая ценность явления складывается первично в отношении к обществу, к объективным потребностям его развития. Следовательно, она вполне объективна, независима от оценки и представляет собой отношение между объективными свойствами предмета и объективными потребностями общества Так, Л. Столович разъяснял: «Поскольку действительными представителями и проводниками общественного развития выступают передовые общественные силы, трудящиеся массы, то объективное отношение тех или иных явлений к коренным интересам этих общественных сил в конечном счете можно рассматривать как объективный критерий их определенной ценностной характеристики»(59,72–73). Другой автор этой же группы эстетиков А. Еремеев подчеркивал: «Онтологический уровень эстетического отношения характеризует: объективное бытие эстетической ценности, безличность, материализованность, существование в качестве объекта познания и оценки как объективной необходимости, здесь эстетическое есть состояние общества» (18,83).
Данная теория эстетического исходила из общего понимания ценности как объективного отношения явления к потребностям общественного развития, которое лишь отражается в актах субъективных оценок. Прекрасное же интерпретировалось как объективное общественное благо. Тем самым указанные авторы продолжали еще одну традицию европейской эстетики, идущую от Сократа через Бекона и Чернышевского Можно согласиться с этой концепцией в том отношении, что ценность содержания прекрасного явления представляет собой интегральную ценность блага, то есть его способность удовлетворить некий комплекс потребностей, направленных на данный род явлений. Но, прежде всего, здесь не учитывается особая объективно-субъективная ценность красоты формы. Да и в осмыслении ценности содержания игнорируется то, что в комплекс потребности в благе могут входить не только непосредственно-общественные потребности, но и духовные потребности личности, которые не сводимы к «потребностям социального прогресса».
Игнорирование автономии духовных потребностей личности сказалось и на исходной для данной теории эстетического общеаксиологической концепции, не учитывающей особые ценностные – объективно-субъективные – отношения, складывающиеся в отношении к этим потребностям.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: