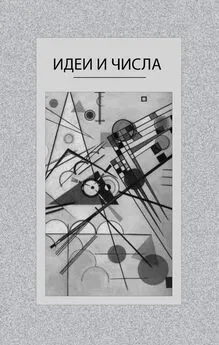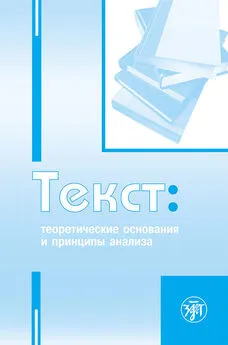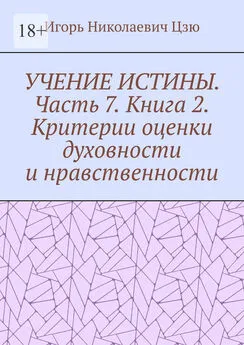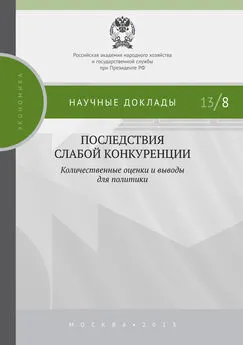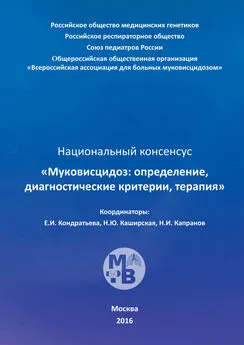Коллектив авторов - Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований
- Название:Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-448-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований краткое содержание
Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В последнее время публичная активность власти явно смещается в сферу сознания, идеального. На первый план, таким образом, выходит гуманитарная составляющая: принципы, идеи, ценности. Впервые за долгие годы на высшем уровне прямо заговорили об идеологии. Ключевые понятия здесь (как бы к ним ни относиться) – духовные скрепы, идентичность, патриотизм. Можно говорить о своего рода гуманитаризации публичной политики, хотя и безотносительно к качеству этого процесса, его интеллектуальному обеспечению и возможным последствиям.
Особая тема – причины такого разворота, очевидным образом связанные не только или даже не столько с духовными запросами политиков, а тем более общества, сколько с усложнявшейся ситуацией в реальной сфере – в экономике, социальной политике, в продвижении инноваций и объявленной модернизации в целом.
В анализе идеологических процессов есть понятие «прореживание дискурса»: важно, что говорится, но не менее важно, о чем умалчивается, что вдруг исчезает, становясь «идеологически несуществующим».
В текстах власти экономика явно отходит на второй план и дальше. Если и говорят об инвестиционном климате, то уже не про условия деловой активности, а про коррекцию имиджа, производство впечатления. Это важно, поскольку идеальная, психологическая и пр. тому подобные составляющие экономической деятельности долгое время недооценивались. Однако в данном случае часто создается впечатление, что таким образом пытаются не дополнить, а едва ли не заменить реальную экономику, с которой дело обстоит уже не так хорошо, как казалось совсем недавно.
Инновации, высокие технологии и другие идеологические, пропагандистские хиты недавнего времени также отодвинуты на второй план в дискурсе власти и всплывают лишь в дежурных контекстах программного уровня, когда их отсутствие выглядело бы совсем скандальным. Модернизация также стала словом «нон грата». Это очевидно связано с тем, что в данных стратегических направлениях, еще совсем недавно считавшихся приоритетными, не было достигнуто заметных результатов.
Все это имеет самое прямое отношение к философским и социогуманитарным исследованиям в стране. Не будет преувеличением сказать, что в свете таких изменений социогуманитарное знание должно было бы выйти на первый план как в русле общей переориентации, так и с известной долей прагматики: смена курса такого рода нуждается в основательном интеллектуальном обеспечении.
Однако ситуация здесь может оказаться более сложной. Сопровождение нового курса в публичной активности власти вовсе необязательно может опираться именно на социогуманитарное знание и именно в его профессиональной, научной, академической ипостаси.
Часто такого рода идеологические и «концептуальные» заготовки делаются на совсем другом уровне, силами интеллектуальной самодеятельности, результаты которой подчас проще усваиваются и созидателями разного рода документов, и спичрайтерами, и самой публикой. В этом случае интеллектуальный эскорт власти может рассматривать академическую философию и социогуманитарную науку не как источник поддержки, а наоборот, как сильного и нежелательного конкурента. В таких случаях срабатывает главный принцип идеологии: представлять частный интерес как интерес всеобщий. Тогда критика пущенных в дело содержательных заготовок оборачивается не критикой качества обслуживания, а критикой самого клиента. Полемика, направленная на «экспертное» сопровождение, переадресуется самой власти, представители которой, как правило, не являются специалистами в вопросах идеологии и социогуманитарных разработок, а потому вынуждены довериться тем, кто либо и в самом деле в этом разбирается, либо всего лишь удачно представляет себя в качестве эксперта.
Возникает конкурентная коллизия, в которой конкурирующие стороны занимают отнюдь не симметричные позиции. Академическая наука, как правило, отнюдь не рвется напрямую обслуживать власть и ее критика официальных текстов и заготовок для них носит в основном незаинтересованный, беспристрастный характер, не претендующий на оргвыводы. Но с противоположной стороны иногда это воспринимается как угроза и едва ли не как претензия занять место в интеллектуальной свите власти. Отсюда понятное желание поставить на место опасного конкурента, подавить его, а в идеале самим занять позиции в области академического знания, с тем чтобы по-своему использовать этот немалый ресурс.
Особенно уязвимы в этом плане именно философия и социогуманитарные науки, поскольку, в отличие от позитивного, точного и естественнонаучного знания, в этой сфере особенно много понимающих со стороны и претендующих на самостоятельные откровения. При этом фракция власти в состоянии навязать сколь угодно неграмотную оценку результативности профессиональной науки, в том числе методами формализованной наукометрии, статистики публикаций, цитирования и пр., в то время как окологосударственная самодеятельность в сфере философствования и социогуманитарных изысканий подобной, да и вообще никакой экспертной оценке не подвергается. Здесь можно продавливать идеи, которые не станут публиковать не только ваковские, рецензируемые и т. п. журналы, но и вообще любые сколько-нибудь уважающие себя издания. В результате в официальных и программных текстах руководства периодически появляются откровенные ляпы, а то и странные сентенции с далеко идущими последствиями.
Описанному выше гуманитарному развороту способствует и переориентация официальной идеологии во времени и даже в самой онтологии мировосприятия.
Теперь место светлого будущего занимает выдающееся прошлое, место инноваций – традиция. Там, где прочили движение, хвалят устои. Это сказывается и на «метафизике» официальной идеологии.
Прагматика чаще толкает человека вперед, поэтому идею прогресса можно строить на материализме. Развернуть человека вспять может скорее нечто идеальное. Прогресс эмпиричен и приземлен, его составляющие можно пощупать руками и инструментом. Ценности прошлого обычно все в сфере высокого, возвышенного, заоблачного – святого. И даже когда России прочат нравственную миссию именно в новом, будущем мире, ничего свежего изобрести не выходит и остается рекламировать свои тонкие духовные ноты на фоне Запада, который опять разлагается – как в лучшие времена, когда этими миазмами у нас затягивались через железный занавес.
Таким образом, сдвиг интереса к идеальной составляющей автоматически повышает интерес к идеологии, а с ней и к философской и социогуманитарной составляющей знания.
В связи с этим нынешний всплеск идеологической активности интересно наблюдать в глубоком историческом разрезе. Если начать с советского периода, то здесь видны «качели», бросающие страну из материализма в идеализм через паузу деидеологизации, а также раскачивающие ее между культом идеологии, идеологической идиосинкразией 90-х и новым увлечением идейными играми.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: