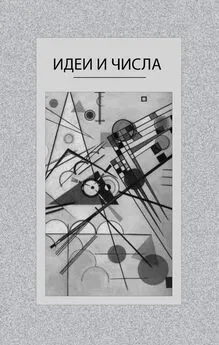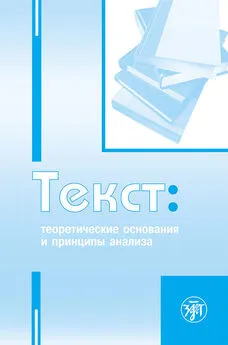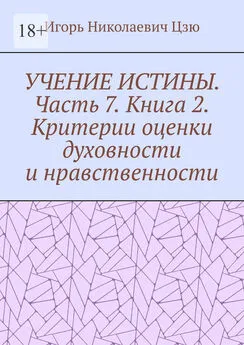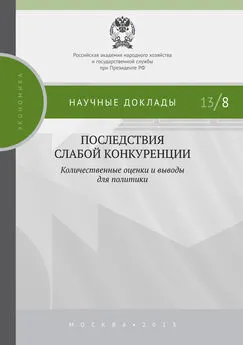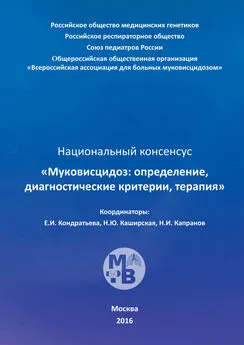Коллектив авторов - Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований
- Название:Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-448-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований краткое содержание
Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
После принятия закона ситуация радикально меняется и еще в одном крайне важном отношении. В процессе прохождения закона в переговорный процесс в итоге оказался вовлечен и сам президент, и его положение здесь трудно было признать особенно комфортным. Соответственно, противодействие реформе воспринималось как противодействие высшим политическим инстанциям и «генеральной линии». В ходе реализации реформы горизонт противодействия смещается вниз, в плоскость взаимоотношений академических и прочих институтов, с одной стороны, и управленческих инстанций – с другой. Это и Минобрнауки, и ФАНО, и дочерние структуры, которые будут в этом процессе задействованы. Поэтому эти структуры власти должны быть готовыми к встречной оценке своих действий, начиная с их информационно-аналитического сопровождения и заканчивая реализацией оргвыводов. Можно легко игнорировать критику проектов политических решений, но трудно игнорировать обструкцию всей той информационно-аналитической инфраструктуры, которая эту политику призвана обеспечивать. Ситуация резко упрощается и приближается к конфликту работника и работодателя, возникающего вследствие того, что работодатель недоплачивает работнику, неверно зафиксировав рабочее время и объем проделанной работы. Это уже коллизия, к которой может привести в том числе и использование неадекватных методов оценки результативности исследований. Ситуация непростая, даже с учетом некоторых особенностей нашей судебной системы.
Эта коллизия может иметь и более общее продолжение. С точки зрения общества и государства есть прямая заинтересованность в оценке результативности деятельности и самой власти, ее конкретных институтов и подразделений. В принципе к этому подходили в начале «нулевых» годов, когда готовилась административная реформа. В том числе речь шла и о формализованных оценках такой деятельности.
Естественно, идеология и методики такой оценки имеют (должны иметь) научное происхождение: они не высасываются из пальца, но базируются на данных и разработках наук об управлении, об экспертных оценках, о формализации данных и т. п.
Тогда, в ходе реализации первого этапа административной реформы, особенно далеко продвинуться не удалось, хотя в расчистке «вопросов» и «функций», содержащихся в соответствующих правоустанавливающих документах, было сделано немало, что нашло свое отражение в новой системе.
Сейчас, в ситуации явного осложнения экономического положения и, мягко говоря, неясности перспектив экономического роста, логично выглядит и экономия расходов на государственный аппарат. Помимо собственно экономической составляющей эта проблема имеет еще и политическую подоплеку: трудно экономить на социальных расходах, наращивая или даже хотя бы не сокращая расходов на бюрократию. Все это может иметь вполне определенные электоральные последствия, а потому нуждается в самом серьезном к себе отношении.
В этом плане особенно эффективными представляются партнерские взаимоотношения науки и государства, причем участие науки в подготовке и реализации стратегии дебюрократизации было и с точки зрения самой власти актом очевидно эффективного внедрения результатов научной деятельности, причем как фундаментального, так и прикладного характера.
В качестве первого, пилотного акта такого взаимодействия самым очевидным образом напрашивается взаимодействие академической среды, с одной стороны, и системы управления наукой – с другой. Исследование и анализ эффективности работы Минобрнауки, ФАНО и пр. могли бы стать идеальным полигоном для отработки такого рода методик. Хотя бы потому, что при всех различиях исследования и управления в этих видах деятельности есть много общего, в том числе и в оценке результативности.
Кроме того, здесь может сработать и еще одна функция оценки результативности, обсуждавшаяся выше: функция дисциплинарной техники и воспитательной меры. Если такие техники и меры и должны иметь место, то они очевидным образом должны быть встречными и взаимными, особенно в деле управления такими тонкими, интеллектуально обеспеченными и аналитически энерговооруженными машинами, как наука.
Есть здесь и важный этический момент. Известная максима: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. В этом плане было бы полезно, чтобы методики, обращаемые управляющими инстанциями на оценку результативности науки, коррелировались бы с методиками оценки результативности самих органов власти и управления.
Нисколько не недооценивая известной утопичности такого проекта, считаем все же полезным, чтобы такие инициативы настойчиво предлагались и реализовывались по мере сил самим научным сообществом. В конце концов, даже противодействие идеям и инициативной практике такого сотрудничества науки и власти может оказаться значимым политически, для выстраивания отношений и для апелляций к вышестоящим инстанциям.
10. Государство или общество: проблема госзаказа
Есть мнение, что наукой и культурой у нас давно не руководили, где-то с советских времен – и вот вдруг занялись, резко и вплотную. Не совсем так. Вожжи вполне не отпускали даже во времена разгула отъявленного либерализма. Разница лишь в том, что теперь, после слегка освежающей паузы, в это дело бросились, во-первых, как никогда активно, а во-вторых, с разного рода обоснованиями права руководить там, где сами руководящие лица авторитетами не являются. Суть позиции в том, что распределение ресурсов якобы автоматически возводит обычного чиновника в ранг политического эмиссара и даже идеолога. Все это чревато причинением вреда далеко не средней тяжести науке и обществу, а в итоге и самому государству: рано или поздно такая самодеятельность дискредитирует власть и лишний раз ссорит ее с интеллектуальной и творческой элитой.
Чтобы понять, где и в чем мы оказались, надо быстро оглянуться. Тем более, что ресурсоемкая наука и в светлом прошлом финансировалось властью.
Так, абсолютизм уже по своей метафизической природе должен был окружать себя людьми высшей интеллектуальной, творческой пробы, украшать правление открытиями и шедеврами. Даже темные, солдафонские времена оставляли после себя памятники творчества и знания. Помимо манифестации величия, не говоря об удовольствии для людей с мозгами и вкусом, в этом было подтверждение трансцендентальной легитимности: помазанника должны окружать «божественные» вещи – а значит, и люди, способности которых тоже не от мира сего. Дар философа и ученого в этом эскорте был особо ценен.
Демократии эти метафизические украшения не нужны, пародиям на нее – тем более. Наука и искусство разбежались из коридоров власти, освободив их для людей разной культуры. Адреса покровителей сменились, однако бизнес и фонды могут перехватывать меценатство, только если власть сама не заигрывает втихую с «богоданностью» и смиряется со своим бытовым предназначением. Тогда приватная благотворительность поощряется самим же государством, которое служит скорее техническим распорядителем, нежели покровителем наук и искусств, и уж точно не покушается на автономию, не вмешивается в кадровую политику творческих сообществ, в культурные стратегии и т. п. Надо понимать, что, списывая дары меценатства с налогооблагаемой базы, власть и с себя списывает миссию высокого покровительства, не говоря о прямом руководстве. А это не всем нравится. Списать с базы – то же самое, что напрямую отдать деньги, а с ними кран и сам руль. И это не просто приватная фанаберия: здесь отрабатывается самоощущение легитимности системы – политика!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: