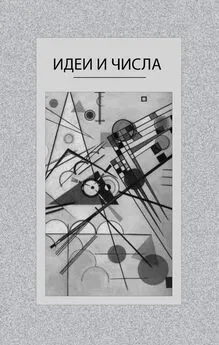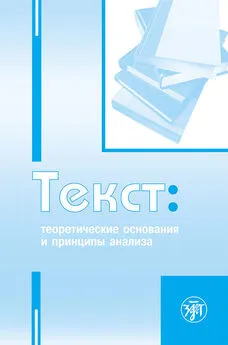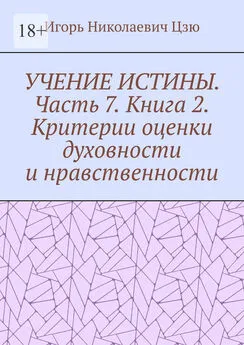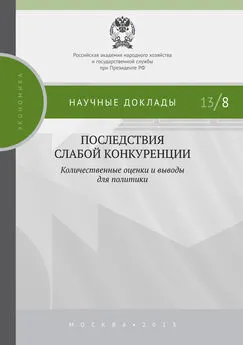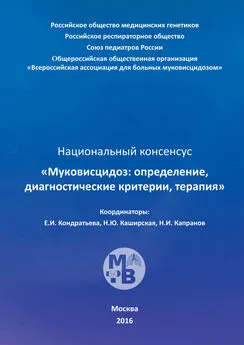Коллектив авторов - Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований
- Название:Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-448-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований краткое содержание
Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У нас в этом плане некоторый микст. Пытаясь нащупать дополнительную легитимацию помимо формальной процедуры переизбрания, начальство гипнотизирует себя иллюзией всевластия. В проклятом прошлом суверен всесилен, потому что легитимен. Но произвол может становиться свидетельством и знаком легитимности де факто. Обычный распорядительный шаблон французского суверена: «Нам так угодно». Доказательством «права править» оказывается способность подавлять любые права, кроме своих, а свои – ничем не ограничивать. Когда схлопывается харизма, люди часто начинают с нарастающим усердием вести себя так, будто она есть и ее много – бог еще не умер, а нам уже все дозволено. «От псевдохаризматической легитимности к квазитрансцендентной» – примерно так это можно было бы описать в логике Макса Вебера.
Все непросто. Научная политика (политика в сфере науки) нужна, но если кто-то думает, что она хоть в чем-то похожа на директиву, это заблуждение, тем более опасное, что оно имеет системный характер. Точно так же у нас и промышленную политику по госплановской привычке тут же сводят к прямым указаниям, кому, где, что и как производить.
Безупречная в своем роде цепочка: наука это услуга, платит государство, государство (здесь) это я, значит, услуга мне – сообразно моему пониманию политического момента, практической задачи и морального контекста. Эта цепочка кажется настолько убедительной, что ее даже открыто проговаривают. Но это только граждане имеют право на все, что не запрещено законом. Чиновник имеет право делать только то, что ему законом прямо предписано. Все остальное – административное или даже политическое самоуправство.
Иногда приходится напоминать, что наука уже давно самостоятельна и самоценна, что деньги государства это деньги людей, а не министерств и ведомств, что не наука оказывает чиновнику услугу, а чиновник оказывает услугу науке в роли нанятого приказчика. Как без личной и лишней самодеятельности организовать получение этого заказа от научного общества – отдельный вопрос, но если аппарат этого не знает, его надо срочно менять. Важно также избегать симуляций: эшелонировать схему карманными общественными советами не проблема, но что такое не карманный совет на деле, тоже известно.
11. Оценка результативности отечественной науки в свете реформы РАН. Репутационные издержки и политические последствия
Начало форсированного реформирования академической науки поначалу вызвало в обществе (и отнюдь не только в научном) противостояние, близкое к кризису. Надо понимать, что дело было уже не только в конфликте Академии и подразделений исполнительной власти. В таких случаях избыточно поляризуется социальное пространство; активизируются задремавшие было политические силы; разные взгляды на процесс и результат обнаруживаются и в самой власти, в том числе в ее исполнительной ветви. Главное при этом понимать, что все это уже не вопрос быстрого продавливания законопроектов, а также принятия пакетов подзаконных актов. Сам этот проект, все его социальные, политические и гуманитарные последствия – все это всерьез и надолго. При этом важнейшей составляющей проекта становится аудит эффективности отечественной науки, ее отраслей, институтов и ученых, прямо связанный с оценкой результативности научных исследований, в том числе в сфере философии и социогуманитарного знания.
Один из недостатков нашей текущей политики – зауженный горизонт планирования, прогнозирования последствий, а главное – оценки достигнутого и содеянного. Понятно, что во власти это волнует далеко не всех, но с определенного уровня и статуса начинаются проблемы не только с сиюминутной репутацией, но и с «работой на историю», на репутацию не только в настоящем, но и в будущем. У нас наверху (особенно в последнее время) об этом явно начинают задумываться; есть даже подозрение, что идея единого и непротиворечиво толкуемого учебника истории не вполне чужда этой заботе. Однако при этом не сразу приходит полное понимание того, что будущее, в отличие от настоящего, пиаром не пробьешь и прореживанием дискурса не исправишь. Его историю (в том числе историю переоценки и реинтерпретации предшественников) пишут, увы, другие, и делают они это часто куда менее ангажированно.
Может показаться, что для разговора о нынешней реформе академической науки в России это начало разговора слишком издалека. Но с другой точки зрения, может быть, именно с этого в данном случае и надо начинать. А именно с того, что от всех этих инициатив и конкретных действий в итоге (в истории) останется. И на ком все в результате (а не в эти месяцы) повиснет. Королёв говорил: «Сделаешь быстро, но плохо – ’’быстро” забудется, ’’плохо” останется. Сделаешь медленно, но хорошо – ’’медленно” забудется, а ’’хорошо” останется».
К тому же бывают проблемы и ситуации, когда «быстро» и «хорошо» в принципе несовместимы. Наш случай отсюда.
Можно спорить о том, какие политэкономические и стратегические последствия будет иметь провал неподготовленного начинания, если оно стартует по наполеоновскому принципу «сначала ввязаться в драку, а там…» (хотя в нашем случае более уместной выглядит русская поговорка «убийство драке не помеха»). Но в истории часто остается даже не столько содержание события, сколько его форма, не столько результат, сколько процедура, способ действия и реализации. Не «что», а именно «как». Часто именно форма действия более всего говорит о человеке, в том числе об историческом деятеле – о его морали, уме, политическом таланте… или недостатках.
С этой точки зрения, сейчас, может быть, гораздо важнее оказываются даже не суть и детали законопроекта, всего пакета и плана реализации, а именно процедура, характер действий и отношений, этика и стиль, политическая манера, наконец, просто эстетика деяния.
По идее, это же должно быть предметом приоритетного обсуждения и коррекции, если мы хотим свести к минимуму негативные последствия такого бурного начала. Особенно с учетом того, что форма взаимодействия, принятия решений и их воплощения будет потом годами аукаться с каждой новой акцией в отношении структур, направлений, институтов, их подразделений и даже отдельных лиц, имеющих (или вдруг приобретающих) неординарный вес.
Если всмотреться в проект и в реакцию на него, окажется, что за вычетом легко снимаемых «экстремизмов» в духе «ликвидации» и т. п. главные претензии предъявляются идее передачи управления научными институтами от академии к специальному органу исполнительной власти. Можно опустить вопрос о том, могут ли чиновники лучше самих ученых руководить исследованиями – определением приоритетов, оценкой результатов и пр. Но на это, по крайней мере на словах, никто, казалось бы, и не претендует. Речь постоянно идет о желании освободить ученых от несвойственной им функции управления имуществом, ни в коей мере не посягая на академическую автономию, то есть на то, что даже в «мрачном средневековье» в более или менее цивилизованном мире уважительно именовалось университетскими свободами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: