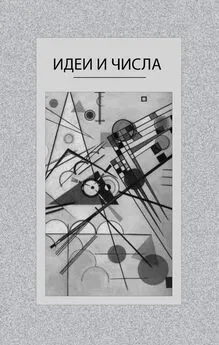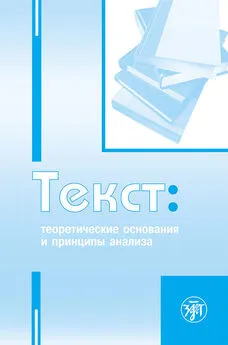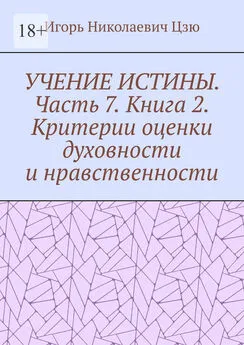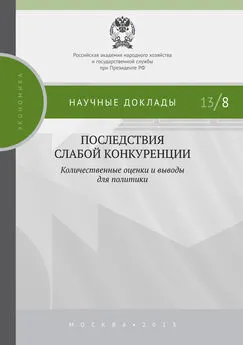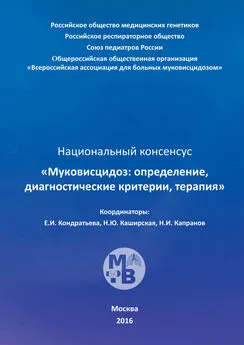Коллектив авторов - Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований
- Название:Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-448-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований краткое содержание
Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В наших условиях, когда мы имеем дело с проблемой избыточного регулирования буквально во всех сферах деятельности, причем отнюдь не только в предпринимательской, можно быть уверенными, что административное вмешательство в исследовательский процесс гарантировано, как только такая возможность появляется, причем совершенно неважно, является такая возможность прямой или косвенной. Мотивы здесь не обсуждаются, поскольку и так понятны и, как правило, к предмету деятельности отношения не имеют. При этом понятно, что в случае, если недвижимостью, движимостью и прочими ресурсами какого-либо института или группы институтов управляет некая сугубо внешняя инстанция, о реальной автономии говорить уже проблематично. В итоге есть риск получить классический, причем искусственно созданный дополнительный административный барьер.
Приходится констатировать, что наша наука в известном смысле проспала постнеклассическую революцию, когда научное знание оказалось перед лицом необходимости объяснять человечеству, что ученые делают, зачем это нужно, какие от всего этого могут быть последствия, причем в равной мере как позитивные приобретения, так и риски, возможно, даже фатальные.
Мы в этом не одиноки. Уже примерно полтора десятка лет назад перед подобной (и совершенно практической) проблемой оказался, например, ЦЕРН, вдруг ощутивший живую потребность начать как-то объясняться с внешним миром, какой ему толк от всей этой ядерной физики и ловли неуловимых частиц, если эта мировая складчина обходится не менее миллиарда долларов в год. Тогда анализ, проведенный в том числе с помощью наших специалистов в области «философского пиара», показал, что даже на совершенно утилитарном уровне у этих, казалось бы, сугубо фундаментальных исследований есть огромное множество побочных достижений, в буквальном смысле слова изменивших мир, например, все та же WWW – World Wide Web, разработанная Робертом Кайо, поначалу в целях оптимизации принятия решений и электронного документооборота. Иными словами, проблема не в результатах, а в том, что о них не знают, если этим специально не заниматься.
Это проблема фундаментальная, можно сказать, историческая и кавалерийской атакой не решается. Если кто-то думает, что реальную результативность нашей науки, тем более не в целом, не интегральную, а с дифференциацией по отраслям знания, по научным организациям и даже отдельным ученым можно выявить, заказав непрофильной иностранной фирме соответствующее разовое исследование, а потом проведя своими же силами скоропалительный «аудит», это само по себе является свидетельством вопиющей некомпетентности, усугубленной нежеланием учиться. ЦЕРН выскребался из этой коллизии не один год, с провалами и не до конца. Что можно говорить о нашей науке, у которой даже близко не хватает ресурсов на исследования, а на экспликацию и презентацию собственной результативности не было и нет вообще ни копейки (если, конечно, не считать такие недавние начинания, как РИЕЩ).
Далее выяснится, что в плане реальной результативности, ее выявления и оценки, есть фундаментальные различия между точным и естественнонаучным знанием, с одной стороны, и социогуманитарными науками – с другой. Никто еще не отменял максимы Клода Леви-Стросса: «XXI век будет веком гуманитарных наук – или его не будет вовсе». При этом в социогуманитарных науках сплошь и рядом самое результативное (даже в сугубо конъюнктурном смысле этого слова) вообще не ловится международными базами данных и индексами цитирования, поскольку привязано к месту, к ситуации и т. п. Если эти различия не учитываются, если эта проблема даже толком не ставится, уровень подготовки любого «аудита результативности» можно без оговорок считать неудовлетворительным и отправлять на пересдачу, лучше сразу с другими учениками.
И наконец, совершенно особая тема – сверхутилитарная «результативность» науки, познавательной деятельности в целом. В науке есть своя прагматика, причем по косвенным признакам и итогам выявляемая даже в фундаментальных исследованиях. Однако человеку и человечеству по определению генетически свойственно узнавать и знать, причем совершенно безотносительно к голой или «приодетой» прагматике. Если это в нации есть, такие направления пестуют и культивируют даже самые малые страны. Тем более это относится к России, в прошлом которой однажды было почти уникальное в истории человечества явление – полный научный комплекс. Даже если в каких-то направлениях остались почти руины этого великого сооружения, к ним надо относиться так же бережно и культурно, как мы относимся к памятникам архитектуры и археологическим открытиям. Это долго объяснять, но есть люди, которым вовсе не объяснишь, почему историческое здание, а тем более памятник архитектуры порой нельзя переоборудовать в стиле модерн (тем более постсоветский) и устроить в храме мысли интеллектуальный фастфуд, хотя бы и неплохо саморекламируемый и даже доходный.
Есть и более простые соображения, ставящие на место сторонников заполошных реформ. Формализованная оценка результативности, казалось бы, дает основания избавиться от балласта. Иногда это срабатывает. Но сплошь и рядом все упирается в непонимание того, что наука это сложный организм, к тому же требующий для своей репродукции определенной среды, состоящей отнюдь не из гениев и их прямых подручных. К тому же вы отсечете огромную зону нераскрытого потенциала, в которой вообще нельзя заранее сказать, что именно сработает и вдруг неожиданно развернет весь процесс.
Нынешняя наука в России – сложнейшее образование, причем не только исследовательское, но и социальное. Представьте себе венчурный бизнес с элементами собеса, по-человечески просто обязанного содержать множество людей, отдавших науке и стране всю жизнь, проработавших за копейки без сна и отдыха и не получивших в свое время за это даже малой доли той компенсации, которую имели и имеют в других странах вполне себе рядовые научные сотрудники.
Возможно, сейчас в нашей истории такое время, что хотя бы на несколько лет вообще лучше воздержаться от каких-либо революционных изменений. Иначе можно легко совершить еще один «подвиг» сродни обесцениванию вкладов и нарваться на протест, в сравнении с которым недовольство монетизациией льгот покажется мелочью, а «заливать деньгами» эту беду придется уже политическому руководству
Подорвать будущее нашей науки сейчас еще проще, но тогда во власти нужно куда больше людей, которых это вообще волнует, понимающих, что для такой страны, как Россия, наука это не приятный аксессуар, но атрибут государственности и самосознания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: