Евгений Иванов - Онтология субъективного
- Название:Онтология субъективного
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448308420
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Иванов - Онтология субъективного краткое содержание
Онтология субъективного - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Заметим также, что и сам предмет, как нечто себетождественное, инвариантное – существует лишь в силу структурированности нашего восприятия (и представлений) смыслами. Мы видим не комплексы разрозненных, изменчивых ощущений, а целостные стабильные предметные образы, несущие в себе имманентно присущий им смысл. Указание на предмет уже предполагает, что данный предмет сконструирован на основе некого эйдоса – представляет некоторую стабильную предметную категорию и только потому и может служить как целое объектом указания.
Здесь нужно отметить, что аналитической теории семантики существует так называемое «холистическое» направление, представители которого не довольствуются классической «атомистической» концепцией, согласно которой смысл языкового символа определяется целиком и полностью через его отношение к тому или иному атомарному внеязыковому объекту (или группе таких объектов). Подчеркивается, что значение символа определяется также и его ролью в языке. Иными словами, для того, чтобы определить значение символа, необходимо выяснить, как данный символ функционирует во всех возможных языковых ситуациях. Значение каждого символа, таким образом, в конечном итоге, определяется строением и функционированием языка как целостной системы. (Эта точка зрения восходит к поздним работам Л. Витгенштейна, и далее она развивалась такими авторами, как В. Куайн, Д. Деннет, Х. Патнем, Р. Рорти и др.) (см., например, [281]). Такого рода «холизм», однако, ограничивает сферу формирования и функционирования смысла лишь внутриязыковыми факторами, что, с нашей точки зрения, явно не достаточно для адекватного понимания смысла.
Рассмотрим некоторые другие подходы к пониманию смысла. Мы уже отмечали тенденцию к элиминации сферы субъективного в современной философии. Такой же элиминации был подвергнут и смысл. Мы имеем в виду многочисленные попытки редуцировать смысл к каким-либо «внешним», «объективным» его проявлениям. Такой подход характерен в частности для прагматизма (Ч. Пирс), лингвистической философии (Л. Витгенштейн, Дж. Остин и др.), операционализма (П. Бриджмен), а также для бихевиористически ориентированной психологии. Смысл в этих случаях целиком определяется через наблюдаемые поведенческие реакции и понимается как некая способность (интенция) к осуществлению таких реакций. Конкретно смысл определяют как «реакцию на знак» (Л. Витгенштейн), «совокупность операций» (П. Бриджмен), «совокупность практических следствий» (Ч. Пирс), «способ употребления слов» (Л. Витгенштейн). Смысл понимается, таким образом, не как «субъективное состояние», а как «осознанно направляемая и повторяемая деятельность» (П. Бриджмен [258]) в ответ на предъявляемый знак. Такой подход, с нашей точки зрения, верно отображает наличие в составе смысла поведенческих интенций. Но смысл совокупностью таких интенций не исчерпывается. Кроме того, здесь полностью «выносится за скобки» вопрос о субъективной данности (переживаемости) интенций.
В состав смысла могут входить компоненты, которые никакой реакции субъекта не обуславливают, и не могут обуславливать. Например, смысл видимой мною звезды, отчасти, состоит и в том, что когда-нибудь (через много миллионов лет) эта звезда погаснет. Но этот факт никак на мою деятельность повлиять не может. Смысл любой вещи определяется отношением к деятельности субъекта лишь постольку, поскольку вещь имеет какое-то отношение к человеческим потребностям. Но вещь имеет определенный смысл даже в том случае, если она нейтральна по отношению к потребностям. Нужно, видимо, признать, что смысл включает в себя любые отношения между любыми вещами. Тогда смысл вещи – есть просто интегральная совокупность отношений данной вещи ко всем другим вещам – как действительным (наличным), так и вещам возможным.
Все попытки как-либо специфицировать смысл, свести его к отношению какого-либо определенного рода, с нашей точки зрения, – бесперспективны. (В качестве примера такой попытки «специфицировать» смысл можно привести известную концепцию смысла А. Ф. Лосева [112]. Лосев определяет смысл через отношения «тождества» и «различия». Это, безусловно, очень общие отношения, они действительно существенным образом определяют смысл, но смысл не исчерпывается только этими отношениями. В смысл, в частности, следует включить также и причинно-следственные отношения, а также отношения пространственной и временной смежности, которые, очевидно, не сводятся к «тождеству» и «различию»).
У Фреге можно найти еще одно определение смысла, также широко используемое в «логических» теориях смысла: смысл есть «условие истинности». Если денотат слова, по Фреге, – это «сама вещь», то денотат предложения – есть «истинностное значение». Т.е., иными словами, смысл предложения раскрывается через указание условий, устанавливающих истинность данного предложения. Эта теория практически не дает ничего нового по сравнению с рассмотренной выше концепцией смысла как «способа указания на денотат». Смысл здесь определяется не через указание на конкретный предмет, а через указание на некую ситуацию, т.е. совокупность определенным образом взаимосвязанных предметов. Недостаток этой теории – это опять-таки ее «атомарный» характер. Смысл раскрывается через отнесение к конкретной ситуации. Но ситуация также имеет некий смысл, который для своего раскрытия требует апелляции к чему-то уже за пределами данной ситуации и т. д.
В некоторых случаях смысл предложения определяется как «информация», которая в нем содержится (т.н. «информационный подход»). Информация, при этом, понимается как мера ограничения некоторого исходного множества возможностей, обусловленного принятием (в качестве истинного) данного предложения [34]. Если попытаться перевести эту теорию на язык «субъективных данностей», то следует признать, что представленность смысла в сфере субъективного предполагает репрезентацию в ней исходного Универсума возможностей, а также репрезентацию тех ограничений, которые осмысляемый предмет (слово, предложение, некий чувственно воспринимаемый объект) накладывает на это множество. Заметим, однако, что сознание никогда не находится в состоянии «чистой доски» – не заполненной каким-либо смысловым содержанием. Следовательно, исходное «множество возможностей» – всегда уже каким-то образом ограничено. Это означает, что «новая порция информации», сопряженная с осмысляемым объектом, может не только ограничивать спектр возможностей, но и открывать новые возможности. Иными словами, процесс осмысления с этой точки зрения предстает как некая «игра возможностей», как серия ограничений или расширений исходного (Универсального) спектра возможностей. С нашей точки зрения – это наиболее адекватное представление о природе и характере функционирования смысла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



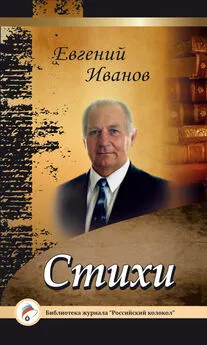
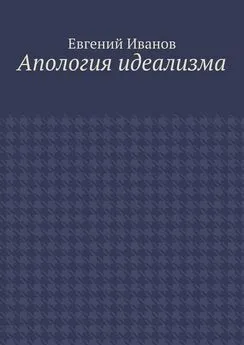

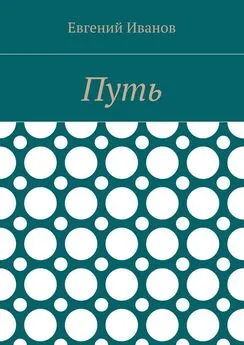
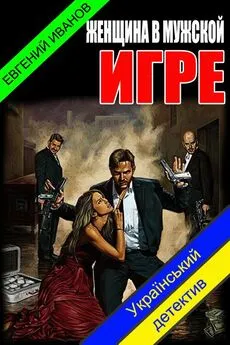
![Евгений Иванов - Тайна старой карты [СИ]](/books/1081445/evgenij-ivanov-tajna-staroj-karty-si.webp)
![Евгений Иванов - Отпуск с риском для жизни [СИ]](/books/1081446/evgenij-ivanov-otpusk-s-riskom-dlya-zhizni-si.webp)
