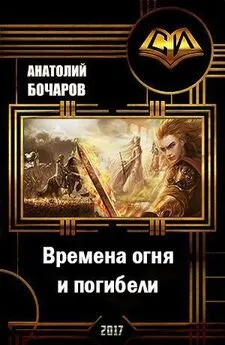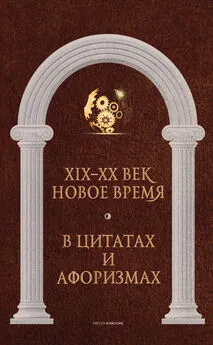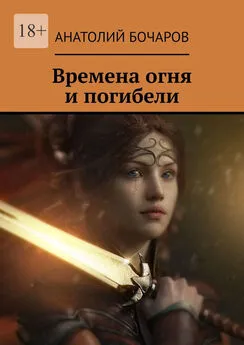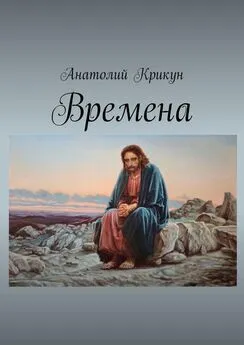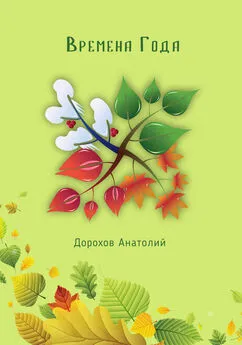Анатолий Ахутин - Поворотные времена. Часть 1
- Название:Поворотные времена. Часть 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:2014
- Город:М.: Берлин
- ISBN:978-5-4458-3783-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ахутин - Поворотные времена. Часть 1 краткое содержание
Поворотные времена. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если бы мы решились войти в философию вслед за мыслителями средневековья, то же самое дело обернулось иначе и смысл самости тех же самых, казалось бы, вещей оказался иной. Подчеркну: не концепций о вещах, а самих вещей. Взаимоотношение этих эпох мысли определяется не идеологическими расколами (язычество – христианство) и не внешним сходством (платонизм, аристотелизм), а внутренним спором об этом самом.
Подобным внутренним рубежом отмечена и эпоха, именуемая Новым временем.
Тот же Гуссерль напоминает нам, что эпоха Нового времени в эмпирическом истолковании опыта вдохновлялась подобным пафосом. «Судить о вещах разумно или научно, – описывает Гуссерль философскую установку этой науки, – значит руководствоваться самими вещами, т. е. вернуться от слов и мнений к самим вещам, обращаться с вопросами к тому, как они даны сами по себе, и устранить все не касающиеся дела предрассудки» 50 50 Husserl E. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie. Erstes Buch. Halle a.d.S., 1922. S. 35.
. Так оно и есть: «Мы не создали, – утверждал Ф. Бэкон, – и не готовим никакого насилия и никакой западни для суждений людей, а приводим их к самим Вещам и к связям Вещей» 51 51 Бэкон Ф. Новый органон. Л., 1935. C. 83.
. Ho вовсе не только и, может быть, даже не столько в так называемом «эмпиризме» науки Нового времени обнаруживается этот эпохальный жест возвращения к самим вещам. Они могут быть помыслены в их внемысленной самости именно так, что мыслящее, мыслящий субъект всецело обособляется от них в собственном невещественном бытии, как ego cogitans, всем своим бытием (субстанционально) противостоящий бытию res extensa. Именно декартовская «эпохе», его методическое сомнение доводят вопрос до философской радикальности: как возможно, как мыслимо внемысленное – для него, как и для всей картезианской научности, это значит объективное – бытие.
Мы можем вспомнить, как превращались заново открытые «сами вещи» в «causa sui» Спинозы, «монады» Лейбница, «вещь в себе» Канта, «дух» Гегеля. Гегель, в частности отталкиваясь во Введении к «Феноменологии духа» от Канта, который-де на пути к вещам увяз в исследовании познавательной способности, зовет смело входить в познание самих вещей. «Когда я мыслю, – пишет он в 1-м т. „Энциклопедии”, – я отказываюсь от своей субъективной особенности, погружаюсь в предмет (vertiefe mich in die Sache), предоставляю мышлению действовать самостоятельно, и я мыслю плохо, если я прибавляю что-нибудь от себя» 52 52 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. 4.1. Логика // Гегель Г. Соч. / Пер. Б. Столпнера. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 55.
.
Сам Гуссерль полагает, что эпохально отстраняет эти учения, и в идее всеобщей феноменологии снова видит путь возвращения zur Sache selbst.
Чем же определяются столь радикальные расхождения в самом радикальном: что такое то самое , чем занимается мысль, – то самое, что занимает мысль у нас для себя и впервые делает ее самой собой ? Как относится к делу мысли само это изначальное, радикальное – онтологическое – расхождение эпохальных философий в самоопределении и определении самих вещей? He здесь ли то самое перепутье, на котором они также и сходятся, могут сойтись? Вот в чем вопрос, который встает перед нами.
Входя – сегодня – в философию, мы подходим к этому перепутью, входим в спор онтологических эпох, в спор эпохально-из-начальных допущений мысли и бытия, допущений, допускающих мысль и бытие к самим себе и друг к другу. Может быть, этот спор и есть – сегодня – само дело философии, которая есть дело самой мысли.
До сих пор европейская философия – и на Западе, и на Востоке – обходилась тем, что так или иначе могла встроить все свои приключения, падения и возрождения, вариации и метаморфозы, все эпохи своей истории в один э о н, определяемый в конечном счете единым пониманием (и множеством непониманий) смысла философского дела и того, о чем это дело ведется. По сей день одним из наиболее продуманных способов такого встраивания остается история философии Гегеля. Когда нынче предшествующая философия на разные лады отстраняется от дела, она также упаковывается в один футляр (субстанциализм, платонизм, лого-центризм).
М. Хайдеггер, например, видит в истории европейской философии изживаемую судьбу метафизики, метафизического оборота изначальной мысли, или превращения платонизма. Превращением платонизма оказывается и новоевропейская метафизика субъективности. Своих пределов, предельных возможностей метафизика (в форме метафизики субъективности) достигает у Ницше и Маркса. Уверенно вписывает Хайдеггер и феноменологию Гуссерля в то самое понимание дела и задачи философии, для которого die Sache, то, что ее по сути дела занимает, есть die Subjektivität – субъективность. Этим, по мысли Хайдеггера, вообще исчерпываются возможности философии как метафизики и открывается собственная задача мышления. В чем же она состоит?
«Когда мы спрашиваем о задаче мышления, то в кругозоре философии это значит: определить то, что касается мышления, то, что для мышления еще спорно, спорный случай. Это и означает в немецком языке слово „Sache”. Оно именует то, с чем в данном случае имеет дело мышление…» 53 53 Heidegger M. Zur Sache des Denkens. S. 67.
. То, чем занимается мышление, – спорное; то, чем занимается радикальное мышление, т. е. философия, есть само спорное. He в том дело, что то, чем занимается философия, все еще спорно, а в том, что то, чем занимается философия, спорно само по себе. Поэтому, заключает Хайдеггер, «Die Aufgabe des Denkens würe dann die Preisgabe des bisherigen Denkens an die Bestimmung der Sache des Denkens» 54 54 Ibid. S. 80.
. Рискну перевести так: «В таком случае задачей мышления была бы выдача предшествующего мышления в распоряжение того, что занимает мышление», т. е. в распоряжение Спорного. Следует переосмыслить предшествующую метафизику в философскую мысль, в мысль, озадаченную собой и тем, что ее занимает. Тогда она войдет в задачу мышления, которое тем самым исполнит свою задачу.
Конец метафизики знаменует, стало быть, начало философии, ее новое рождение. Рождение не какой-то новенькой философии, а самой философии. Новое рождение вечной философии во всем ее вековом составе. Платон, Фома Аквинский, Николай Кузанский, Декарт, Гегель, Ницше… – еще только предстоят. Нам еще предстоит их открыть 55 55 Ср. слова О. Мандельштама: «А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяют исторические Овидий, Пушкин, Катулл» ( Мандельштам О. Э. Слово и культура. М., 1987. С. 41).
. Так «не шумите афиняне», когда слышите о «деструкции всей предшествующей метафизики». Мы возвращаемся к самому делу философии вместе со всеми, кто в этом деле участвовал, мы возвращаемся zur Sache selbst.
Интервал:
Закладка:
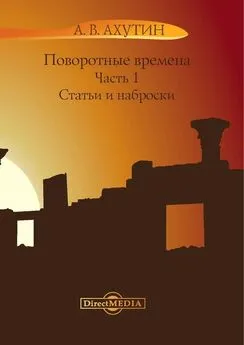

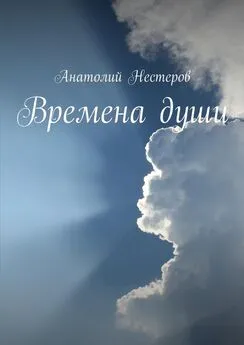

![Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]](/books/1076530/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs.webp)