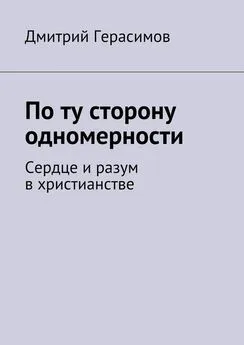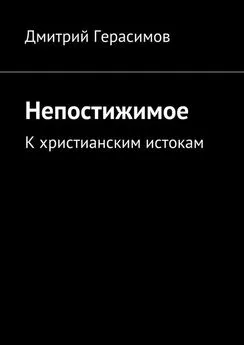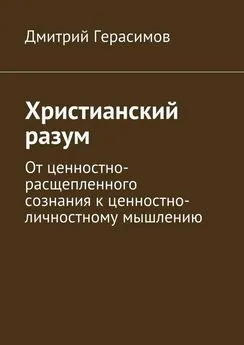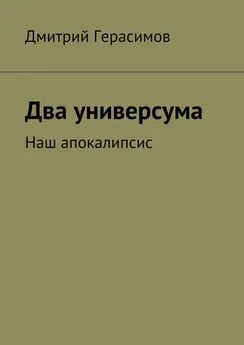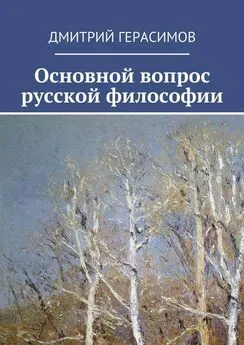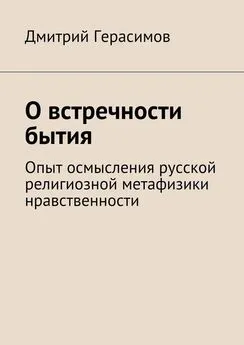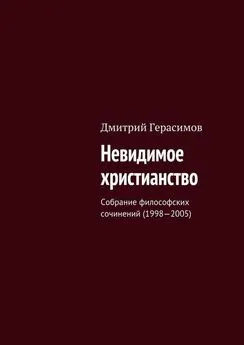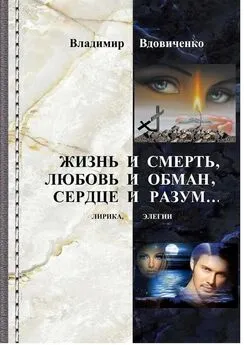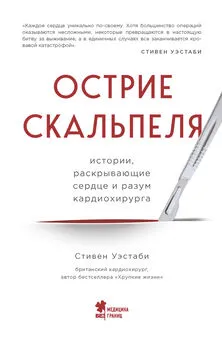Дмитрий Герасимов - По ту сторону одномерности. Сердце и разум в христианстве
- Название:По ту сторону одномерности. Сердце и разум в христианстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448318573
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Герасимов - По ту сторону одномерности. Сердце и разум в христианстве краткое содержание
По ту сторону одномерности. Сердце и разум в христианстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Позднее представители другого влиятельного философского течения ХХ в. – феноменологии, отходят от характерного для первоначальной теории ценностей сближения ценности и смысла. Уже учитель Э. Гуссерля Ф. Брентано критиковал И. Канта и его последователей за то, что они интеллектуализируют понятие ценности, поскольку видят источник его в разумной воле, тогда как в действительности источником ценности являются эмоциональные акты предпочтения (любви) и отвращения (ненависти). В противоположность неокантианцам Ф. Брентано, Э. Гуссерль, М. Шелер и Н. Гартман были убеждены в объективном, сверхэмпирическом характере «чистого чувства». Согласно М. Шелеру (который и был первым философом, «открывшим» логику сердца у Б. Паскаля), любовь и ненависть суть «содержательные априори», последний фундамент всякого другого априоризма 12 12 Гайденко П. П. Нравственная природа человека в европейской традиции XIX—XX вв. // Этическая мысль: Ежегодник. М.: ИФ РАН, 2000. С. 102.
. При этом, будучи объективными, все ценности личны, поскольку, по М. Шелеру, имеют своей основой ценность божественной личности – бесконечного личного духа, который есть любовь 13 13 Там же.
.
К началу XX в. уже ни одно философское учение не оставляет без внимания проблему ценностей. Последняя воспринимается в качестве общей тенденции развития философской аксиологии. В русской религиозной философии первой половины XX века кроме Н. О. Лосского (главным образом его работы «Ценность и Бытие» 14 14 Лосский Н. О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей // Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М.: Республика, 1994.
) и того, что в разных местах по поводу ценности писал А. Ф. Лосев 15 15 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990; Лосев А. Ф. Диалектические основы математики // Лосев А. Ф. Хаос и структура. М.: Мысль, 1997, и др.
, более никто понятием ценности специально не занимался. Но, несмотря на несправедливое игнорирование теории ценностей (при справедливой критике И. Канта), в философии, связанной с именем В. С. Соловьева, можно выделить по крайней мере три направления или течения в исследовании ценностей. В первом, наиболее раннем варианте учения о ценностях (В. С. Соловьев, Е. Н. Трубецкой) ценность фактически отождествляется со смыслом (несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что «всеединый смысл» здесь и есть то, что есть ценность). Второе течение (Н. О. Лосский, А. Ф. Лосев) уже онтологически отличает смысл от ценности, одновременно полагая последнюю в качестве одной из «ипостасей», или «градаций» смысла. Наконец, третье течение (Н. А. Бердяев, отчасти С. Л. Франк) движется в сторону установления фундаментального отличия ценности от смысла, хотя и не формулирует этого отличия. Основанием же для радикального отделения ценности от смысла служит утверждение ее неразрывной связи с личностью. Поэтому чем значительней персоналистический элемент, представленный в философии того или иного русского мыслителя (начиная с В. С. Соловьева), тем заметнее у него исходная дихотомия ценности и смысла (достигающая своего апогея в персонализме Н. А. Бердяева). Таким образом, в русской религиозной философии, как и на Западе, развитие теоретических представлений о ценности носит, во-первых, постепенный характер – ценность не сразу отделяется от смысла, но прежде проходит через компромиссную стадию «сложного единства-различия» со смыслом, и, во-вторых, последовательный , т.е. вполне согласующийся с логикой историко-философского процесса характер. С метафилософской же точки зрения само появление теории ценностей, как и направление ее дальнейшего развития, прямо выражает собой процесс самопрояснения христианского сознания (или христианского разума) в философии.
Разум и смысл
В соответствии с кантовским пониманием рассудка и чувственности, сердце («иррациональное») и разум («рациональное») образуют самостоятельные «начала», а следовательно, не совпадают и не пересекаются. Однако, считал И. Кант, с точки зрения разума их взаимоотношения носят строго иерархический (а следовательно, рациональный!) характер (в котором форма определяет содержание, и никак иначе), поскольку в противном случае они должны были бы накладываться друг на друга, образуя ложную, одномерную перспективу сознания (что в действительности и происходит). Вот почему, отталкиваясь от обыденного сознания, обладающего необходимой для науки «всеобщностью» мышления, И. Кант не допускал одномоментной («симультанной») актуализации ценности и смысла, не допускал и возможности духовного опыта (благодаря которому как раз и возможна такая актуализация). В результате весь процесс мышления описывался так, как если бы доминирующей силой обладала только форма мысли и ничего кроме формального рассудка не существовало. В действительности (если перейти от чисто гносеологической, структурной интерпретации разума к онтологическому, функциональному его пониманию) не только рассудок полагает границы чувственности, но и разум ограничивается со стороны так называемых внутренних переживаний (которые, в отличие от чувственности, направленной «вовне», не могут быть опосредованы мыслью). Последнее хотя и присутствует у И. Канта, но выражено опять же чисто формально – в учении о примате практического разума и регулятивности идей разума.
И. Кант стремился преодолеть одномерность («догматизм») мышления, при которой ценность и смысл «слипаются» или накладываются друг на друга. Суть же накладывания состоит в (чаще всего неосознаваемой) концентрации сознания, т.е. в перенесении внимания на какое-либо одно «начало». Причем такая концентрация носит охранительный, природно-приспособительный характер, что ясно указывает на ее первичность по отношению к расщепленному сознанию: сознание ребенка, дикаря вполне «едино» и «цельно», в нем нет еще разделения на мысль и чувство. С другой стороны, любая концентрация предполагает скрытую периферию сознания и поскольку накладывание происходит, это означает, что хотя фундаментальное разделение уже осуществлено и первичная «наивность» детского сознания потеряна, первоначальное «единство» по-прежнему остается востребованным и необходимым с точки зрения бытия в мире. Расщепленное сознание способно вывести «по ту сторону» мира, но мир в этом не нуждается, он требует прямо противоположного – единства сознания. В результате одномерное мышление раскалывается внутри себя на центр и периферию, на рациональное и иррациональное, осмысленное и бессмысленное. Если применительно к дуалистическому, расщепленному сознанию нельзя говорить о рационализме (либо иррационализме), то одномерное мышление в силу концентрации сознания обязано быть либо рациональным, либо иррациональным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: