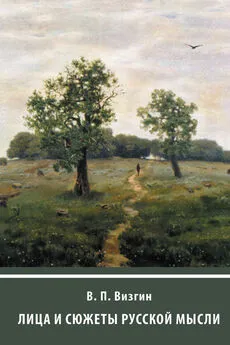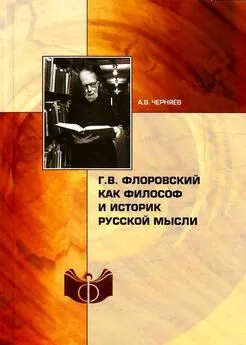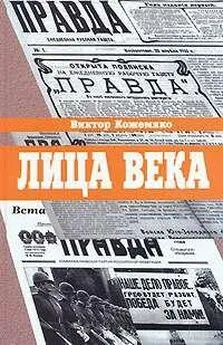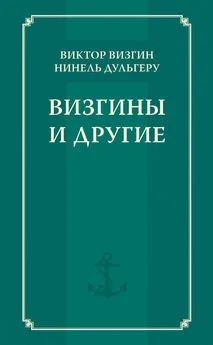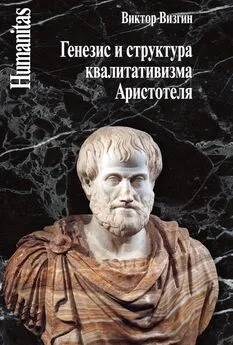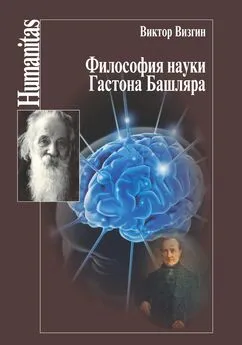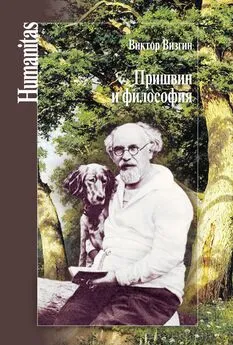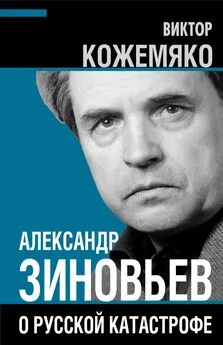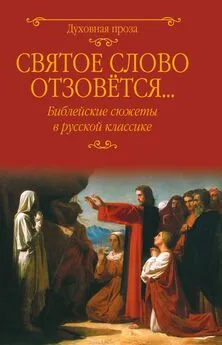Виктор Визгин - Лица и сюжеты русской мысли
- Название:Лица и сюжеты русской мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Знак
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9906133-6-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Визгин - Лица и сюжеты русской мысли краткое содержание
Значительное место в книге уделено проблеме соотношения платонизма и экзистенциальной ориентации философии, в которой, по мнению автора, кроется один из главных концептуальных «узлов» русской мысли. В ней также раскрывается значение русской религиозно-философской мысли для возникновения европейского экзистенциализма. Русская мысль, подобно французской, по мнению автора, развивается традиционно в тесной связи, прежде всего, с литературой, выступающей ресурсом ее экзистенциальной направленности.
Лица и сюжеты русской мысли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мифорелигиозная реальность живых духов – вывороченная наизнанку вера науко-веров (Флоренский любил писать это слово через дефис). Если для верящих в науку заведомо есть электроны, атомы, молекулы и т. д. вместе с их движениями и законами, то для мифовера, как Флоренский, заведомо существуют эльфы и прочие духи, известные из мифов и религий мира. Но для философа как философа нет ни тех, ни других. Во всяком случае, их «заведомое» бытие он отрицает. Философ все ставит, должен ставить, раз он философ, под вопрос – и электроны и русалок. Флоренский готов был к первому, но ко второму, видимо, нет, раз он говорит о «заведомой» вере в духов. Нет ли в этой позиции нарочитой антипозитивистской и антисциентистской бравады? Может быть, чуточку она и присутствует. Но, думается, не в ней дело и было бы, пожалуй, ошибкой оценивать Флоренского таким некрупным аршином.
Бросается в глаза еще одна любопытная особенность, мысль о которой возникает при попытке истолковать эти показавшиеся странными слова Флоренского. Они включены в главу «Пристань и бульвар» упомянутой прозы о его детских годах в Батуме. Ребенком он гулял с маленькой сестрой по берегу моря и собирал разные диковинки – камушки, обточенные морем, корни и т. д. Находки были для него личными дарами Моря как живого существа в виде зеленовато-голубой бесконечности, полной откровений и тайн. Разглядывая эти дары, говорит Флоренский, «я смотрел – и припоминал, нюхал и точнее припоминал, лизал – опять припоминал, припоминал что-то далекое и вечно близкое, самое заветное, самое существенное, ближе чего быть не может» [112] Флоренский Павел, свящ. Детям моим. С. 49.
. Вот уж чистейшей морской воды, хочется сказать, платонизм с его непременной идеей анамнесиса! Море отозвалось в нем как «зовущее родное», будто он сам происходил из рода Нереид, но забыл об этом и вот, в виду его, одаряющего богатствами своей тайны, он вспоминает о далекой и вечно близкой родине… Здесь опять миф о душе, рассказываемый Платоном в его диалогах. Но в этом орфико-пифагорейском по корням мифе родина души выступает как горний мир. Здесь же родным повеяло от Моря, от водной стихии, которую привыкли считать не «горним», а «дольним», не духовным, а телесным, не идеальным, а материальным началом. Подчеркнем этот важный, на наш взгляд, момент: вещество мира, его глубины, в том числе водные, выступают для Флоренского как заместитель горнего, духовного, высшего – небесного. Иными словами, дух и тело для него неразделимы, если они живы, суть живые существа, имеющие имя и носящие вместе с ним тайну своего бытия. Небо у нас не только над головой, но и под ногами, если мы землю и море чувствуем как духи – дух, как живые – живого.
В главе «Пристань и бульвар» мы можем без труда отыскать все основные интуиции и темы позднего Флоренского. Действительно, символизм, причем подчеркнуто реалистический, в его классическом бодлеровском представлении («Correspondances», 1852), пробудился во Флоренском тогда, когда он был ребенком. Вот дети, играя на берегу, докопались до морской воды на дне выкопанной ямы: «Совсем слезы, – говорит о том детском опыте взрослый естестводухоиспытатель. – И не значит ли это, что и сам я – из той же морской воды? Везде взаимные соответствия, за что ни возьмешься – все приводит опять и опять к морю» [113] Там же. С. 47.
. Итак, «везде взаимные соответствия»:
Природа – дивный храм, где ряд живых колонн
О чем-то шепчет нам невнятными словами.
Так Бальмонт передает начальные строки бодлеровского «Correspondances», передает близко к оригиналу (у Бодлера, правда, нет «нам» и нет «ряда» колонн, просто vivants piliers). И что должно быть особенно созвучно Флоренскому, так это две следующие строчки. Дадим их в оригинале, ибо у Бальмонта сказано все же хуже:
L’homme у passe à travers des forets de symbols
Qui lbbservent avec des regards familiers [114] Poetes fran^ais XIXe – ХХе siècles. Anthologie. M., 1982. P. 184.
.
Вот наш прозаический перевод: «В храме Натуры человек идет по девственным лесам символов, смотрящих на него знакомыми взглядами». Символы, что глядят на человека в храме Природы, суть живые существа, взгляды которых напоминают о самом для него родном, хотя и полузабытом. Таково и Море, которое Флоренский пишет с большой буквы, – ведь это имя живого существа. А современная наука, кстати, говорит по сути дела о том же: воды первобытного океана сформировали нашу кровь и т. д. [115] Уолд Дж. Почему живое вещество базируется на элементах второго и третьего периодов периодической системы? // Горизонты биохимии. М., 1964. С. 103.
И поэтому мы не смотрим на Вселенную извне, а глядим на нее изнутри. Именно совпадение религии и мифа с наукой, особенно новой, не-механистической и неевклидовой, характеризует направление устремлений Флоренского в его творческой деятельности – вывести науку, а с нею и всю культуру из тенет и теней позитивистического иллюзионизма под солнце древнего мифа…
Отметим еще две основные интуиции-темы, раскрываемые с такой выразительностью на страницах этой же главы. Тут же, на морском берегу, вместе с символистским credo проступает и первичный опыт всеединства: «В земле – вода, во мне – вода, медузы – тоже вода…» [116] Флоренский Павел, свящ. Детям моим. С. 48.
. Иными словами, все – одно (единое). Опыт гётеанских метаморфоз подтверждает этот морской опыт фалесовского типа. А математика дает ему соответствующее оформление. «Различное по виду… едино по сущности», – заключает Флоренский.
Море – живой ноумен, который тогда, в блаженном детстве, действительно «виделся, обонялся, слышался». Важный момент: ноумен, идеальная сущность, казалось бы, нечто отвлеченное, интеллектуальное, умное – для Флоренского изначально чувственное, телесно-живое, наглядное, непосредственное. Конкретность будущей метафизики о. Павла в этом. Глубокий – ноуменальный – пласт бытия, пласт «жизнетворческий» постигается, по Флоренскому, не абстрактным мышлением, а всем существом, цельно, непосредственно, прежде всего чувственно. Опять мы не можем не вспомнить здесь Гёте с его «прафеноменом», который у него (пра)ноуменален, как и Море Флоренского, как и Вода Фалеса, у которого тоже, кстати, «все полно богов».
Реалистический символизм Флоренского имеет точки соприкосновения с той формой экзистенциальной мысли, которую мы находим в философии Г. Марселя. Рассказывая о впечатлениях раннего детства, о. Павел говорит о том, хочется сказать, магическом воздействии, которое он испытал, увидев нарисованную его отцом обезьяну, предназначенную на роль стража запретного для него винограда. Нарисованный орангутанг, подчеркивает он, был «мощнее, значительнее, неумолимее живого…». И продолжает: «Я тогда-то и усвоил себе основную мысль позднейшего мировоззрения своего, что в имени – именуемое, в символе – символизируемое, в изображении – реальность изображенного присутствует,и что поэтому символ есть символизируемое» [117] Флоренский Павел, свящ. Детям моим. С. 35.
.Упомянутое нами соприкосновение Флоренского и Марселя мы находим в слове «присутствие» («присутствует»). Разбирая ситуацию с образом умершего человека, фотографию которого любовно хранит любящий близкий ему человек, Марсель говорит, что она не напоминает ему об ушедшем, а позволяет вступить с ним в реальный контакт: доступ к его подлинному присутствию приоткрыт этой фотографией. Но тут же сходство сменяется расхождением. Действительно, Флоренский, как видно из приведенной цитаты, отождествляет «есть» и «присутствует», говоря, что «символ естьсимволизируемое». Марсель же, напротив, различает, хотя и связывает тоже, смыслы слов «есть» и «присутствует». Так, в одном месте он говорит, что Бога нет, но Он присутствует. Можно сказать, что у «есть» и у «присутствует» разные онтологические статусы, разные модусы бытия. Можно было бы даже предположить, что у присутствия более высокий статус в этом отношении, чем у просто бытия (от «есть»). Можно было бы уточнить, что в присутствии мы имеем дело с бытием мистическим, невыразимым объективно. Но мы сейчас не станем развивать этой мысли – это увело бы нас от нашей темы. Укажем на другое. «Есть» – знак приравнивания субъекта суждения к его предикату. «Присутствие» же выражает экзистенциальную тайну, несказанную тайну быть. Разумеется, в языке «есть» обозначает и «существует». «У нас в лесу есть дубы» – это значит, что в близлежащем от нашего дома лесу существуют дубы. Именно этот смысл и звучит в словах «Бог есть». Но Марсель предпочитает говорить о «присутствии» Бога (в молитве Его присутствие более открыто, чем без нее, хотя это не означает, что вне молитвы у Бога нет присутствия, что Он присутствует только в ней, посредством нее). Марселю важен акцент на присутствии и на отстранении от привычного для схоластики тематизирования бытия как сущности потому, что Бога он мыслит экзистенциально-личностно, а не объективно. Бог – не есть объект. Его невозможно объективировать. Для того, чтобы отделить христианского Бога от аристотелевских и платоновских сущностей и идей, французский философ и акцентирует выражение «присутствие». Флоренский же не делает этого.
Интервал:
Закладка: