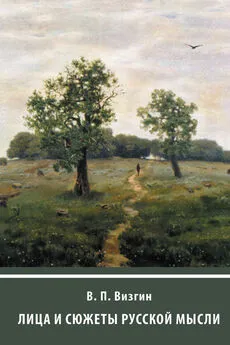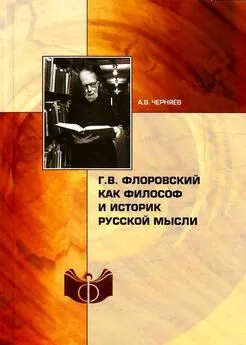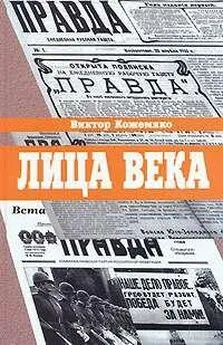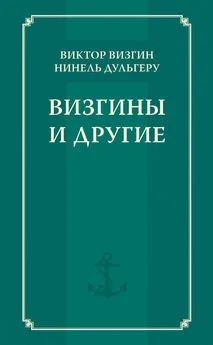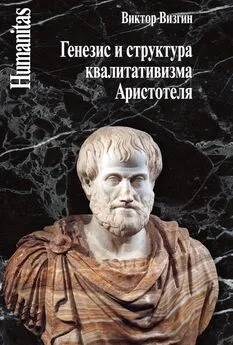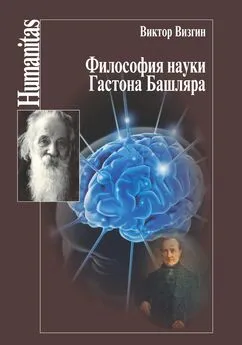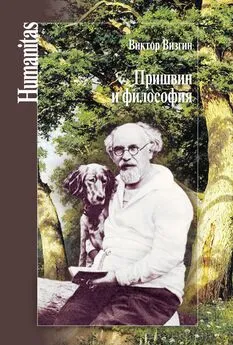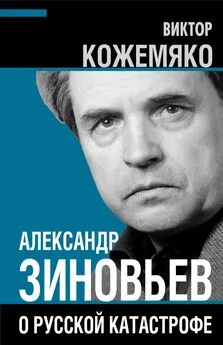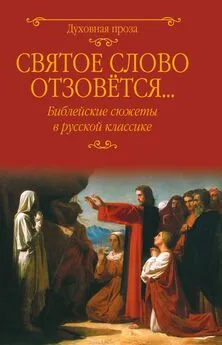Виктор Визгин - Лица и сюжеты русской мысли
- Название:Лица и сюжеты русской мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Знак
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9906133-6-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Визгин - Лица и сюжеты русской мысли краткое содержание
Значительное место в книге уделено проблеме соотношения платонизма и экзистенциальной ориентации философии, в которой, по мнению автора, кроется один из главных концептуальных «узлов» русской мысли. В ней также раскрывается значение русской религиозно-философской мысли для возникновения европейского экзистенциализма. Русская мысль, подобно французской, по мнению автора, развивается традиционно в тесной связи, прежде всего, с литературой, выступающей ресурсом ее экзистенциальной направленности.
Лица и сюжеты русской мысли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Возьмем для примера статью «Эмпирея и Эмпирия» (1904), к которой он впоследствии возвращался. В ней Флоренский в диалогической форме дает обоснование религиозного мировоззрения и раскрывает его основные смысловые узлы. Объекты его анализа, здесь фигурирующие, и сам ход их рассмотрения показывают, что его интересует базовая структура культа, приоткрывающая тайну «стыковки» эмпирического (земного, обыденного явления) с эмпирейным (небесным, чудесным). Такова прежде всего евхаристия, центральное таинство христианства. Неосвященные хлеб и вино, находящиеся вне «силовых линий» культа, – просто хлеб и вино с определенными наборами присущих им физико-химических и подобных характеристик. Но включение их в мистериальную жизнь культа приводит к тому, что эти обыкновенные земные вещества становятся Телом и Кровью Христовыми. Трансцендируя уровень нашего земного мира, они соединяют его с высшей реальностью. Различие между их земной видимостью и небесной реальностью, подчеркивает автор статьи, состоит не в том, что в таинстве причастия к этим веществам мы добавляем особый смысл, смысл субъективной символизации Тела и Крови Христа. Нет, говорит Флоренский, «вино и хлеб реально и субстанциально пресуществились» [121] Там же. Т. 1. М., 1994. С. 160.
.
Научное, философское, богословское мировоззрения сливаются у о. Павла в одно универсальное религиозное миросозерцание, которое он ориентирует по таинству евхаристии. Именно евхаристия, говорит о. Павел, «как последняя точка, созерцаемая на Земле, как наикрепчайший и наионтологичнейший устой Земли – и основа и критерий всякого учения» [122] Флоренский Павел, свящ. Собр. соч. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М., 2004. С. 150.
. Эту мысль он подкрепляет авторитетом св. Иринея Лионского, характеризуя его как одного «из наиболее глубоко и последовательно культоцентричных свидетелей Христовой веры» [123] Там же.
. Кстати, и его собственное религиозное мировоззрение следует обозначать тем же самым словом – последовательный универсалистский культоцентризм. Таким образом, культоцентрическая ориентация просматривается в творчестве Флоренского уже в его ранних работах, обретая размах и проработанность к его вершинным годам, когда читались лекции по философии культа и христианскому миропониманию и создавались работы цикла «У водоразделов мысли».
Теперь обратим внимание на другую программную работу раннего Флоренского, а именно на речь «Догматизм и догматика», читанную 20 января 1906 г. на заседании философского кружка Московской духовной академии (МДА). В ней раскрывается концептуальный философский горизонт культоцентрической мысли о. Павла. Кроме того, она показывает пафос его поисков, связывая их с контекстом эпохи, в частности, как с освободительным порывом того времени, переживаемым Россией, так и с философско-литературным движением символизма, которые, кстати, переплетались между собой. Суть предложенной в ней Флоренским программы преобразования богословия состояла в том, чтобы напомнить о живой опытной основе догматики, деградировавшей в XIX в. до догматизма и переставшей привлекать умы и сердца тех, кто серьезно относился к христианству. Флоренский выдвигает тезис, согласно которому к построению новой догматики надо идти от личного духовного опыта, от «непосредственных переживаний» Бога человеком. Только в таких переживаниях, подчеркивает он, «Бог может быть дан как реальность»: «Только стоя лицом к лицу пред Богом, просветленным сознанием постигает человек правду Божию» [124] Флоренский Павел, свящ. Соч. в четырех томах. Т. 1. С. 554.
. Суть предложенной Флоренским программы состоит в том, чтобы от субъективности переживаний перейти к их объективной структуре. «Переживания молитвы, – говорит он, – слишком летучи, слишком порхающи… Необходимо оформить переживания, к живущей плоти их придать сдерживающий ее костяк понятий и схем» [125] Там же. С. 556.
. Понятия и схемы, объективирующие религиозный опыт, считает Флоренский, неведомого Бога индивидуального мистического переживания сделают ведомым Богом богословско-философской науки, систематически развитого культоцентрического учения.
Почему для взвешенной оценки философии культа эта работа, лежащая у ее истоков, столь важна? Да потому, что в развитой форме философии культа переживания, молитва и другие проявления субъекта религиозной жизни отосланы, скажем мягко, на второй план. Анализ молитвы в девятой лекции «Философии культа» завершает чтения о культе. В объективистски ориентированном изложении учения о культе непосредственные переживания Бога, личный опыт Богообщения в молитве неслучайно оттеснены на самый его конец. Но не так обстояло дело с соотношением категорий субъекта и объекта в работах раннего периода, только прокладывающих путь к философии культа. Как показывает упомянутая речь, здесь их порядок был прямо противоположным. Отталкиваясь от субъективных переживаний, Флоренский шел к их объективной структуре в понятиях и схемах, в платоновских идеях, можно сказать. Кстати, в этом раннем тексте, что нехарактерно для позднего Флоренского, он опирается на Достоевского, бывшего в истории мысли инициатором ее христианско-экзистенциального, а не научно-богословского, платонистски ориентированного, направления. Цитируемый текст Достоевского подчеркнуто экзистенциален, как и его комментирование Флоренским. «Мимоидущий лик земной, – пишет Достоевский, цитируемый о. Павлом, – и вечная истина соприкоснулись тут вместе» [126] Флоренский Павел, свящ. Соч. в четырех томах. Т. 1. С. 554. В издании здесь и далее вместо курсива разрядка. – В. В.
. И далее экзистенциально-лирическим эхом звучит слово самого Флоренского: «И когда это касание мирам иным свершилось, тогда вдруг радостно затрепещет и разрывается несказанной радостью ошеломленное сердце. И запоет оно жгуче-ликующий гимн своему Господу, благодаря и славословя, и рыдая за все и о всем…» [127] Там же.
. Что слышится за этим восторженным слогом? Если и Платон, то Платон тайный с его живым мистическим опытом. Но еще более слышится здесь Достоевский с характерным для него лиризмом «касания миров иных». «Ошеломленное сердце», «жгуче-ликующий гимн Господу» – это еще и тон ветхозаветных пророков, библейской экзистенциальности. Библия и Достоевский ведут здесь основную голосовую музыкальную партию, а Платон звучит лишь приглушенно, под сурдинку. «Музыки» такого состава мы уже больше не встретим на страницах поздних культоцентрических работ о. Павла.
Тональность этого и подобных ему мест у Флоренского раннего периода отсылает не столько к «новому религиозному сознанию», за которым стоит Д. С. Мережковский и его круг, сколько к «пересекавшемуся» с ним символистскому движению во главе с Вяч. Ивановым и А. Белым. Стремление радикально обновить религиозное мировоззрение, придать ему освобождающий пневматологический смысл, влить в старые меха вино новых переживаний, личного опыта молодого поколения, несомненно, связывает истоки культоцентрического богомыслия Флоренского с новаторским духом этой эпохи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: