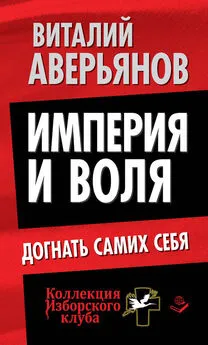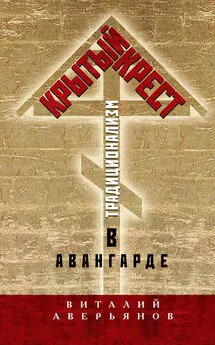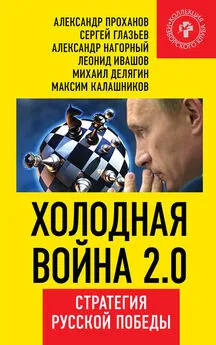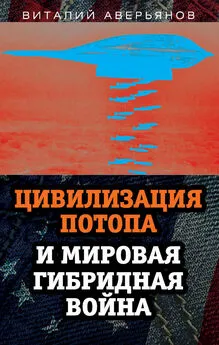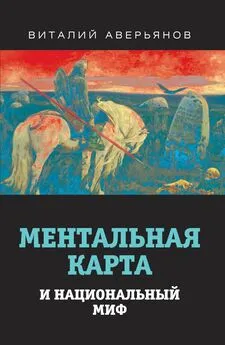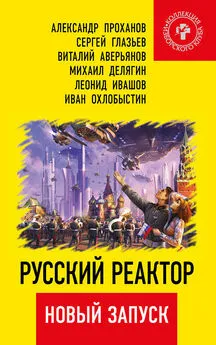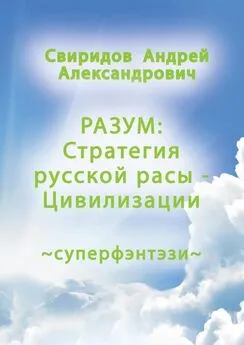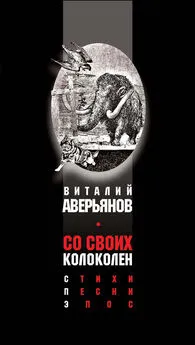Виталий Аверьянов - Стратегия Русской доктрины. Через диктатуру к государству правды
- Название:Стратегия Русской доктрины. Через диктатуру к государству правды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Книжный мир
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8041-0721-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Аверьянов - Стратегия Русской доктрины. Через диктатуру к государству правды краткое содержание
Россия должна не «угодить» всему миру, не подладиться под сложившуюся мировую ситуацию, но использовать ее для воссоздания гармоничного порядка, для отвоевывания культурного и жизненного времени и пространства для нашей Традиции-Цивилизации. Мы не считаем, что в прошлом России существовал некий «золотой век», который заслуживает слепого поклонения и к которому необходимо вернуться. Скорее мы пытаемся реконструировать Россию такой, какой она могла бы быть, если бы ей не помешали разворачивать ее национально-государственную традицию. Иными словами, мы стараемся в русской истории увидеть те нити, которые связывают ее вопреки всем переломам, вопреки смутным временам и революциям, и эти нити протянуть в сегодняшний день.
Напор жизненных сил нашего народа в начале XX века был огромен, и тогда вождь и государство могли использовать этот демографический, волевой, антропологический подъем русского мира. Сегодня мы видим упадок русского мира. В нашу эпоху методы должны быть филигранными, а лидер должен быть виртуозом, чтобы решать подобные задачи с наименьшими затратами.
Автор и издатель благодарят действующий при Изборском клубе аналитический центр «КОПЬЕ ПЕРЕСВЕТА» за поддержку при осуществлении данного издания.
Стратегия Русской доктрины. Через диктатуру к государству правды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Часть первая
Консерватизм в отдельно взятой стране
Третий полюс [7] Впервые опубликовано в журнале «Эксперт» (№ 10 (317) от 11 марта 2002 г.).
Что следует иметь в виду, когда мы толкуем о консерватизме
Не так давно руководители идеологического отдела одной из новых партий власти предложили мне принять участие в подготовке конференции по политическому консерватизму – с тем, чтобы в дальнейшем разрабатывать официальную идеологию партии (а значит, и государства). От других своих знакомых я также слышал о проявлении внимания к «серьезному» идеологическому консерватизму со стороны ряда представителей высшей политической элиты, в том числе в администрации президента. Был проведен даже некий конкурс работ на лучшую консервативную идеологию. Все это наводило на мысль, что в ближайшее время она будет сформулирована и заявлена в свежих и жестких формулах. Однако эти предположения не оправдались – оживление сменилось очередной идейной стагнацией.
Однако решать проблему выбора пути, формулирования национальной идеологии все же придется. Ключевым в этом разрезе оказывается вопрос наследства: СССР как наследник Российской империи и современная Россия как наследница СССР. Сама по себе эта постановка вопроса (если не брать узко юридическую сторону дела) является консервативной, связанной с видением политической ситуации в большой исторической перспективе.
По мере того как претензия советского типа модернизма на мировую революцию ослабевала, в нем возрастал неоконсервативный элемент, советский мир осознавался как особая цивилизация и приходила догадка, что она является исторической наследницей царской империи. Что было плохо в советской системе – «модернизм» или «консерватизм»? Ответ не очевиден. Но характерно, что глава государства всегда подчеркивает свое уважение к советскому прошлому, к госслужбе, к государственникам, к КПРФ; характерно, что он пошел на весьма болезненный для либералов символический шаг: на реставрацию государственного гимна – шаг по существу популистский. И все-таки до сих пор остается непонятным, является ли наметившийся сдвиг к консерватизму чем-то серьезным, идущим в русле русской исторической традиции, или же эти жесты оказываются временными попутчиками популизма в сфере символов и прагматизма в деле укрепления вертикали власти. Идеологическая лаборатория путинской команды на сегодня – «фабрика компромиссов», по выражению одного из функционеров президентской администрации.
Консервативная «ниша» в России как исторически, так и актуально имеет огромную идеологическую и психологическую емкость. Я убежден, что если у нас все-таки выйдет на авансцену серьезная консервативная идеология, то ответ на нее снизу будет самым благоприятным. Пока же консервативные ходы в политике используются как элементы политтехнологий, и не более того. В 90-е годы это был, с одной стороны, консерватизм национал-патриотического блока – «красный» консерватизм, сочетавший неумелое троеперстие с посещением Мавзолея, а осторожные и неубедительные речи про тысячелетнюю империю – с верностью марксизму. Перспективный в принципе, этот путь синтеза неоконсервативной идеологии оказался заложником нетворческого аппарата компартии. С другой стороны, выдвинулись неприглядные для консервативно мыслящего российского человека «правые» младореформаторы, и возникла путаница. Назвавшись правыми, Гайдар, Немцов, Кириенко, Чубайс окончательно дезориентировали обывателя, отодвинули куда-то в туманное прошлое тот факт, что либералы-западники в России никогда так не именовались. Этим лишний раз подчеркнули, что в России нет заслуживающей внимания политической традиции и можно без обиняков взять американские термины «правизна» и «левизна» и просто пересадить их на нашу почву. Очень характерная позиция для якобы «правых». В 90-е годы существовали также карликовые политические движения, употребляющие идиомы консерватизма, такие воззрения симулировались и в предвыборной риторике генерала Лебедя и Владимира Рыжкова, но на этом сейчас нет смысла задерживать внимание.
Вполне вероятно, что, с точки зрения кремлевских политтехнологов, популизм начала века должен отличаться от популизма конца 80-х годов – тогда политика питалась антикоммунистическими ожиданиями, теперь – если не антилиберальными, то, во всяком случае, нелиберальными. Пройдя полукруг от планового социализма через рыночный капитализм, стрелка политических часов стала клониться к третьему полюсу – полюсу консерватизма. Рубежным стал 2000 год, когда довольно резко поменялся тон многих публицистов. Вчерашние проповедники либерализма стали наперебой угадывать идеологию, таящуюся в сердце загадочного и. о. президента, вскоре ставшего полноценным президентом. Большинство сходилось на «либеральном консерватизме».
Политтехнологи взялись за дело более круто – они сразу принялись объяснять всем политику нового курса и даже строить смелые проекции, подчас заигрывая с запретными темами. Так, директор Института политических исследований С. Марков в 2000 году говорил, что Путин станет лидером нового корпоративного государства, чем-то вроде «Муссолини, но более или менее цивилизованным», как он выразился.
Надо сказать, что ожидания и предчувствия были не совсем безосновательны. Другое дело, что отличить, где проявилась личная воля президента и его команды, а где продолжался псевдоконсервативный пиар, оказалось нелегко. Политолог А. Морозов правильно заметил, что «путинский неоконсерватизм от начала и до конца создан современными специалистами медийной борьбы», и перечислил неоконсервативные черты нового курса именно как элементы своего рода культурологической кампании, своего рода нового популизма: «Как „неоконсерватор“ Путин позиционирует себя соответствующим образом: летает на истребителях, повторяет слова императора о том, что „у России два союзника – армия и флот“. Он не только утверждает, что „Россия – европейская страна с христианскими традициями“, но и летит в Псково-Печерский монастырь за благословением к самому почитаемому современному старцу о. Иоанну Крестьянкину. Путин встречается с Солженицыным, а правительственные СМИ толкуют курс восстановления вертикали власти с помощью учения о государстве Ивана Ильина».
Специалисты, которым было поручено проработать новые идеологические задачи, должны были сразу столкнуться с проблемой выбора, поскольку консервативная парадигма неоднозначна и включает в себя совершенно противоположные идеологии. Понятно, что «ситуационный» (модернистский) консерватизм должен был показаться наиболее подходящим для новой политической технологии, поскольку он представляет собой идеологию стабилизации сложившихся на данный момент отношений, идеологию, которая опирает проект государственного строительства на фундамент фиксируемого здесь и сейчас согласия, status quo, – с гарантией, что не будет репрессий и «пересмотров» итогов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: