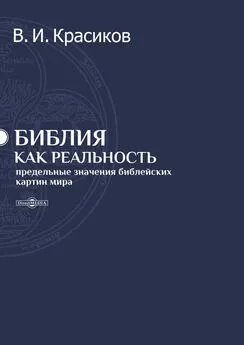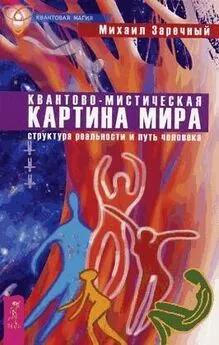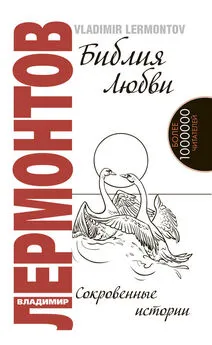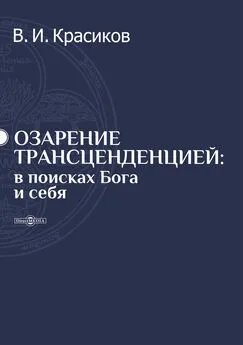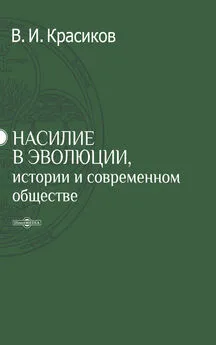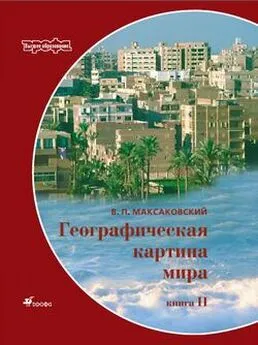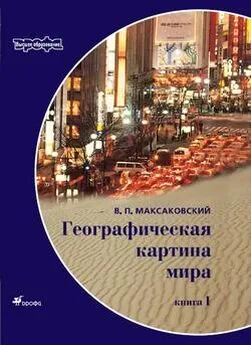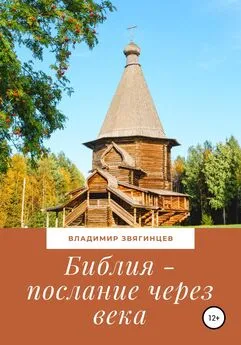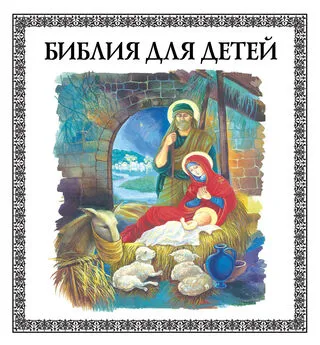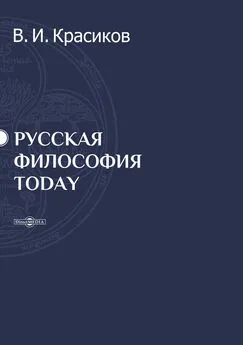Владимир Красиков - Библия как реальность. Предельные значения библейских картин мира
- Название:Библия как реальность. Предельные значения библейских картин мира
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:2014
- Город:М.-Берлин
- ISBN:978-5-4475-3767-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Красиков - Библия как реальность. Предельные значения библейских картин мира краткое содержание
Библия как реальность. Предельные значения библейских картин мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другая важная мысль о существеннейшем качестве Создателя - всеприсутствии – неоднократно воспроизводится в Ветхом завете в поэтическом, образно-метафорическом ряде сопряженных друг с другом стихий: "сильного ветра – землетрясения – огня – тихого веяния". Излишне говорить о всеприсутствии движения воздуха вокруг людей, неожиданности подстерегающих их землетрясений и огня и, может быть главное, о тихом веянии – как первом образе\синониме души, духа. Сам Саваоф прямо указывает на свое всеведение как на всеприсутствие – в ответ на стенания пророка Илии о своем одиночестве и заброшенности: "… выйди и встань на горе пред лицом господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра (выделение – В.К.)" ( 3 Цар. 19.11-12).
Незримость присутствиятрансцендентного в повседневности здесь выражена натуралистично, а не спиритуалистично – Илия даже и не ищет Господа в своей душе, в своем "Я", как, к примеру, Августин Блаженный – и это создает ощущение всеединства природы, Бога и человека, где именно Бог присутствует и объединяет все и вся. Здесь еще нет глубокого дуалистического излома конфликтующих и не понимающих друг друга Духа и Природы, сознания и тела – хотя, и это обесценивает в наших глазах эту идиллию, – нет, увы, и Духа, и собственно сознания как развитой и утонченной рефлексии.
Третья модель феноменологического облика Саваофа является явно доминирующей в Ветхом завете. Это социоморфнаямодель Бога. На него проецируются предельные социальные статусы: Царя, Господина и Судьи. Власть и сопряженные с ней сила, преклонение и страх, являются отчетливо профильными характеристиками Иеговы: "Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный" (Втор. 10.17) " … и окрест Бога страшное великолепие" (Иов. 37.22).
Указанные характеристики – "парадигма" Саваофа: задают его духовный облик, характер отношений с людьми и конечное фиаско в общении с ними как с человечеством (исключая евреев-иудеев, для которых Он остался "племенным Богом"), превращение Его в формально-ритуальную фигуру на фоне нового Бога – Иисуса Христа.
Царская ипостась Саваофа ярко представлена в видении пророка Исайи: " … видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм" ( Ис, гл. 6, фр.1). Еще более впечатляющая картина монарха-Бога (названного здесь индифферентно-отстраненно "Сидящим") – в "Откровении" Иоанна Богослова, где присутствует все бессмысленное великолепие Власти: "и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий … и вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах двадцать четыре старца, которые облачены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы …" (Откр. 4.2,4-5).
И не случайно очень часто синонимом Бога является слово Господь-словесная субстанциализация значений "власти", "господства", "давления" и пр. Тайна "Бога-для-традиционного сознания" – власть, страх, подчинение. Это – обратная сторона так сказать "экстравертной" (вовне, на внешность) ориентации традиционного индивидуального сознания – его более интересуют смыслы и ценности его окружения (богатство, долголетие, почести, власть, чувственные удовольствия), нежели его внутренняя жизнь. Последней, собственно, еще и нет – нет созданного своими собственными усилиями идеалистического мира его сознания, как нет и "интровертной" ориентации на приоритет в жизни человека самосозданных ценностей этого мира.
Эти люди, для которых по-настоящему есть только одна "реальность" (даже если они и знают теоретически о возможности их плюрализма), – реальность установок массового сознания. Они составляли и составляют абсолютное большинство людей – для них трансцендентное всегда будет явно или неявно облачаться в форму прежде всего высшей социальной ценности (по пиетету к ней) – власти. Бог-любовь, Бог-Дух, свобода – это форма помыслия Бога интровертных рефлексивных сознаний. Хотя как идея эта форма помыслия Бога установилась затем в христианстве – она во многом оставалась и остается голой формой, абстракцией для многих людей – на первый план всегда выходило реальное содержание, старое доброе представление о Господе, Владыке, Вседержителе, Хозяине и пр.
Четвертая модель феноменального облика Саваофа выражает собой становление рефлексивного разума, как Бога, так и людей – параллельно. Так первоначальные самопределения Бога в Ветхом завете строятся только через утверждения своей бытийности ("…Я есмь Сущий (Иегова) … (Исх. 3.14)) либо соотнесенности с имяреками (Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова).
Также она являет собой переход от прямых, антропо-социоморфных перцепций-установок о Боге к метафизическому пониманию Его. Она несет в себе образность, которая передает уже некоторые предельные смыслы, вселенские функции – поэтому эту переходную модель можно назвать абстрактно-метафорической.
К примеру, пророк Малахия так говорит о Боге: " … Он – как огонь расплавляющий и как щелок очищающий" (Мал. 3.2). Метафоры "огня", "щелока" сопряжены со вселенскими функциями очищения от зла и гармонизации Целого.
Пророк Иезекииль видит Саваофа в "подобии человека", но состоящего как бы из огненной субстанции: "И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг; от вида чресел его и выше и от вида чресел его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом"(Иез. 1.27; то же – 8.2). И здесь "сияние", "огонь", "пылающий металл" передают смыслы: светоносного начала (смысловой ряд: сияние – тепло – жизнь – благо); потенциальную карательность Господа: (смысловой ряд: огонь, пылающий металл – испепеление, ярость).
Есть, однако, существенное отличие по характеру использования метафор в текстах Ветхого и Нового заветов. В Новом завете метафоры используются, в особенности Иисусом Христом, сознательно – для адекватно-герменевтической передачи высших смыслов. Напротив, в Ветхом завете использование метафор осознанно ("как", "как бы"), но еще не сознательно, – пророки ищут выразительные слова для передачи своих перцепций-видений (Иоанново Откровение, напоминаем, скорее пророческое "ретро" в ветхозаветном стиле). Здесь, таким образом, выразим личностный опыт переживания контакта с трансцендентным – поэтому и имеет место именно описание Бога – Его феноменологического облика. В Новом завете само трансцендентное ищет пути передачи Своих смыслов – длялюдей, не отягощенных развитым самосознанием и силой воображения ("нищие духом"), Иисус ясно и недвусмысленно говорит об этом, объясняя им свое пристрастие к притчам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: