Андрей Мороз - Народная агиография. Устные и книжные основы фольклорного культа святых
- Название:Народная агиография. Устные и книжные основы фольклорного культа святых
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Неолит ООО
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9908630-5-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Мороз - Народная агиография. Устные и книжные основы фольклорного культа святых краткое содержание
Народная агиография. Устные и книжные основы фольклорного культа святых - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Время и пространство в народных агиографических нарративах
В монографии, посвященной легендам, Ю. М. Шеваренкова так охарактеризовала специфику отражения времени и пространства в них: «Как космогонические и этиологические легенды, рассказы о святых и библейских персонажах не дают точной привязки событий в мировой, христианской или местной истории. Народная легенда вырывает их из того конкретного времени, в которое помещает их церковное знание. Историческое пространство, в котором живут священные герои народных рассказов, не уточнено, не сужено теми географическими координатами, в которых реальное историческое или полумифическое лицо некогда прославило себя. Фольклорные высокие герои вырваны из исторического пространственно-временного, бытового и культурного контекста, живут сами по себе [курсив автора. – А. М. ], в отвлеченном от восприятия современного рассказчика и слушателя времени и пространстве. Рассказчик может эмоционально переживать историю (и даже плакать, рассказывая о судьбе Марии Египетской, одиноко умирающей в пустыне, или о Варваре-великомученице, погибшей от рук отца-язычника), но событийно не участвовать в ней (а это как раз является отличительной черной легенд-“быличек”, по сюжету которых чудесный герой, например святой или Богородица, беспрепятственно проникает в жизненное пространство рассказчика, соприкасаясь с его бытом и зримо меняя его судьбу)» [Шеваренкова-2004, 34–35].
На наш взгляд, это утверждение нуждается в уточнении. Подходя к фольклорному времени с позиций современного городского человека, воспитанного книжной культурой, исследовательница настаивает на размытости фольклорного времени в отличие от времени «церковного знания», для которого, как для знания исторического, обязательны точные пространственно-временные координаты. Однако же она не принимает во внимание, что житийная литература, даже тогда, когда житие содержит указание на время действия, в целом повествует о подвиге святого как о вневременном событии, значение которого ощущается повседневно. С другой стороны, фольклорное время (в том числе и время фольклорных христианских легенд) тоже имеет свои границы и последовательность, но организованные по иным принципам: существует время, которое можно было бы назвать «мифологическим», к которому относятся все значимые события давнего прошлого, уже не измеряемые конкретными сроками, и время «историческое», глубина которого измеряется памятью нескольких поколений (ср. «Это еще до наших дедов было» vs «Это вам надо кто постарше спрашивать. Вот мой дед – он, наверно, помнил»). То же можно сказать и о пространстве. В этом смысле время и пространство агиографических легенд значительно более конкретно, чем в житийной литературе, так как они ориентированы на установление органической связи между «здесь и сейчас» и хронотопом легендарных событий. Как справедливо замечает О. В. Белова, «основу “легендарного хронотопа” составляет нерасторжимое единство вечного и сиюминутного» [Белова, 26].
Уже было отмечено, что основная функция народных житий святых – мотивирующая. Они не только и не столько повествуют о биографии святых, сколько объясняют природу их святости и причину их почитания, которое, в свою очередь, предполагает определенную обрядовую практику. Народная религиозность ищет материального воплощения в культах святынь, который, в свою очередь, мотивируется почитанием святых [Telfer, 334]. Обычно начало обрядовой практики самими носителями традиции возводится к прецеденту, когда впервые проявилась сила сакрального персонажа, – иерофании; в этот момент святым явлено какое-либо чудо, причем следы его нередко можно наблюдать и в момент повествования (камень с отпечатком ноги святого, источник, открытый им, дерево, под которым тот ночевал, и проч.). В этой связи существенное значение приобретает время иерофании, как и вообще временные характеристики, содержащиеся в народных агиографических легендах.
О категории времени в народных агиографических текстах можно говорить в нескольких аспектах: для них значимо и собственно время действия (жизни святого, иерофании), и актуальное время – время повествования, и, наконец, календарное время, которое организует постоянное и регулярное почитание святого и соответствующие ритуальные практики.
Время, когда происходили события, ставшие сакральным прецедентом, время, когда святые жили, относится в далекое прошлое. Это прошлое соотносимо с прошлым былин и исторических преданий – мифологическим временем культурных героев, первопредков, богатырей, чьи возможности совершенно несопоставимы с возможностями людей. В это же время творился современный мир и миропорядок [Белова, 24–28], Бог и святые ходили по земле, наблюдали за людьми, награждали и наказывали их чудесным образом. Чудеса, совершавшиеся в ту эпоху, были совершенно обычны для нее, но воспринимаются как чудеса с позиций современного человека. Собственно, возможность, реальность и обыденность чуда и есть основное отличие мифологического времени от настоящего, исторического. Не проводя конкретной границы между первым и вторым, носители традиции достаточно четко осознают ее. На вопрос о том, когда святые жили или совершали упоминаемые чудеса, обычно можно услышать ответ наподобие: «Это было еще до наших дедов», «Этого и старики, наверно, не помнят» или «Это, может быть, мой прадед застал» (ср.: «Это, может быть, не до нашей эры, в нашу эру, но очень давно» [Филичева, 20]). Те же отсылки к опыту предыдущих поколений встречаются при объяснении необходимости исполнения тех или иных обрядов или происхождения обычаев: «Так старые лю ди делали…» [Толстая-1992, 39]. То есть мифологическое время отделено от исторического пределами памяти нескольких поколений. Все, что происходило до этого, обычно представляет собой прошлое, никак не градуируемое и не структурируемое. Иногда время действия народных житий определяется временной дистанцией, заведомо большой, обозначаемой «круглым» числом: [Когда св. Александр Ошевенский построил монастырь?] Пятьсот лет с лишним назад [АЛФ, Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Ошевенск, зап. от Л. М. Клюшина, 1933 г.р.]; [Когда жил св. Иринарх?] Не меньше под пятьсот лет [ЛАМ, Ярославская обл., Борисоглебский р-н, с. Кондаково, зап. от Л. Н. Захаровой, 1929 г.р.]. В современных данных нередко содержатся попытки рационального объяснения чудесных событий, связанных с деятельностью святых, однако и в них выражено восприятие того времени как иного. Так, рассказывая о следе, оставленном на камне св. Александром Ошевенским, информант отметил, что это произошло еще тогда, когда камни мягкими были [АЛФ, Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Тихманьга, зап. от В. Климова, 1967 г.р.].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
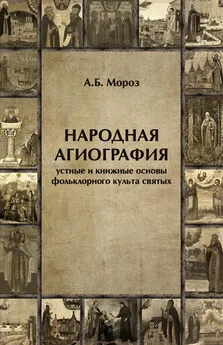


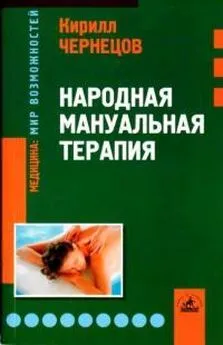
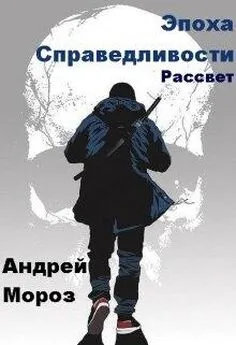
![Андрей Мороз - Мгла [СИ]](/books/1083599/andrej-moroz-mgla-si.webp)
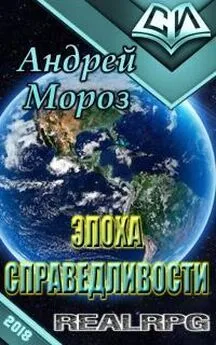
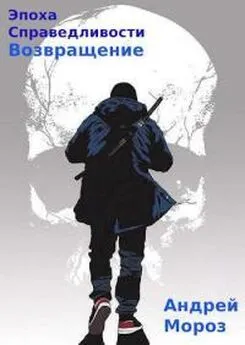
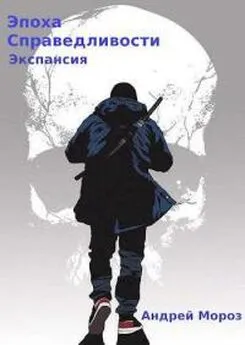
![Андрей Мороз - «Гарем» Лорда [СИ]](/books/1148340/andrej-moroz-garem-lorda-si.webp)