Олег Дивов - Храбр
- Название:Храбр
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-699-18663-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Дивов - Храбр краткое содержание
Новая книга Олега Дивова – опыт глубокого погружения в этот яркий и сложный мир. Чтобы рассказать о нем простыми и честными словами, понадобился особенный герой. На самом деле Илья Урманин знаком вам с детства, только вы еще не видели его таким. Сейчас князь выпустит Илью из погреба – и тут герой себя покажет. Ему предстоят затеи, каких раньше не бывало, и чем он победит, никому не ведомо.
Узнайте, как все было на самом деле. Не пожалеете.
Или пожалеете, но будет уже поздно.
Храбр - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Боярская» былина достигает расцвета в XVI в. Именно ей мы обязаны модифицированным образом князя Владимира, подозрительно смахивающим на Ивана Грозного, «сафьяновыми сапожками» и развесистыми шапками героев. В целом антураж «княжего двора» из поздних былин совсем не киевский, а царско-московский.
С XVII в., особенно после истребления скоморохов, былины окончательно «спускаются в народ», и к XIX–XX вв. их последними хранителями оказываются преимущественно северные крестьяне-сказители.
Столь запутанная и сложная история былин влекла за собой и социальную трансформацию их героев. Дружинник Илья в устах церковной среды делается под конец жизни монахом и даже киевским чудотворцем (да-да, вот и наш старый знакомый Илья «Сапожок» Печерский); в боярской среде Илья превращается в «старого казака», верного правительству; в казацкой – наоборот, Илья защитник и представитель «голи казацкой». Наконец, в устах северного крестьянства Илья – крестьянский сын «из города Мурома, села Карачарова».
Похожей трансформации подвергся и облик дружинника Алеши Поповича. В светской и «демократической» среде его сословное прозвание «Попович» стало для Алеши роковым. Былой героический образ снизился до комического.
Невольно приходит мысль: как задумаешься над судьбой былинных персонажей, так и пропадет всякая охота совершать подвиги.
5. Рассказчики истории
В XIX веке главным хранителем былинного эпоса стал далекий и глухой Север. Немного былин удалось записать в северной и южной Великороссии, Поволжье и среди русского казачества на Тереке, Волге, Дону и по Уралу. Следов бытования русских былин на Украине очень мало, былин в подлинном смысле там вообще записано не было. Чрезвычайно редкими оказались записи былин или сказок с былинным содержанием в Белоруссии. Тем не менее на основании некоторых исторических свидетельств (например, письма оршанского старосты Кмиты Чернобыльского от 1574 г. с упоминанием Ильи Муромца и Соловья Будимировича) фольклористы пришли к выводу, что былинный эпос был когда-то распространен на юге и юго-западе.
Лучше всего к эпохе научных записей (вторая половина XIX в.) былины сохранились в Олонецкой и Архангельской губерниях. Для этого было много оснований: отдаленность Севера от политических и культурных центров, часто необычайная глушь заброшенных среди лесов и озер селений, отсутствие хороших путей сообщения. Сильно повлияло на сохранение былин наличие ряда промыслов, таких, как рыбный, для которого характерны длительные процессы плетения сетей или ожидания ветра на берегу. Да и лесорубы вынуждены были проводить долгие зимние ночи без дела в таежных избушках. Все это, вкупе с медленным проникновением в глушь грамотности, создавало вплоть до революции благоприятную обстановку для сохранения русского эпоса в его устном бытовании. Свою роль сыграло и отсутствие на Севере крепостного права. Вместе с упорной борьбой за выживание это сформировало особый «северный характер» с его чувством достоинства, упорством в работе, смелостью и предприимчивостью. Былинные богатыри оказались близки и понятны сознанию «северовеликоросса».
Исполнение былин никогда не было на Севере профессиональным. Правда, сказителей нередко приглашали участвовать в рыбном промысле. Пение былин приравнивалось к самой работе, и сказитель получал равную долю с другими членами артели. Как тут не вспомнить варяжского скальда, задающего пением ритм гребцам!
Сказители обычно принадлежали если не к состоятельным, то к вполне крепким крестьянам. Бедняки среди них были редкостью, хотя именно из бедноты происходила Мария Кривополенова. Для запоминания и исполнения былин, по признанию северного крестьянства, требовалось обладание «особенным талантом».
Это действительно так. Каждое новое исполнение былины становилось актом творчества. Дело в том, что сказителю не обязательно заучивать былину наизусть, главное – запомнить сюжет и имена героев. Дальше помогают мнемотехники, заложенные в «типические запевы», и сам блочно-формульный принцип построения былины – если ты помнишь определенный набор формул, пой, не собьешься. Таким образом, сказитель избавлялся от необходимости держать в голове огромный массив текста. Но зато каждый раз он как бы заново собирал былину из множества готовых блоков. Он мог сделать ее короче, длиннее, динамичнее, медленнее, жестче, лиричнее… Сказитель мог все.
Справедливости ради отметим: традиционность былинного стиля, помогавшая сказителям, влекла за собой нечувствительность к смыслу выражений и оборотов. «Окаменелые эпитеты», употребленные по привычке, могли оказаться совсем не к месту. Типичные примеры: князь Владимир называется ласковым даже тогда, когда он весьма неласков; царь Калин своего же татарина зовет «поганым», а татарин, передавая грозное приказание князю Владимиру от имени своего повелителя, называет последнего «собака Калин царь».
Личность сказителя проявлялась не только в подборе репертуара, но и в трактовке характеров героев. У набожного сказителя и богатыри окажутся преувеличенно набожными; у сказителя-«книжника» в былину проникнут книжные обороты речи. Ясно, отчего в устах портного голова Идолища Поганого после удара Ильи Муромца отлетает, «будто пуговица». Один сказитель подробно опишет наказания героев, другой обойдется с ними ласковее и т.д. Этим же объясняется, почему у двух сказителей, «понявших» (т.е. перенявших) былину у одного и того же лица, текст может иметь более или менее заметный индивидуальный строй.
Для «понимания» былин требовалась большая восприимчивость, обычно их запоминали в юные годы, но публичное исполнение былин молодыми людьми было редкостью. «Сказывание» считалось делом людей «степенных», они обычно бывали стары (60–70 лет, иногда 80–100). Часто искусство сказывания былин переходило по наследству.
В 60-х годах XIX в., когда делали свои записи Рыбников и Гильфердинг, былинная традиция в Олонецком крае еще жила достаточно интенсивно, хотя и тот и другой собиратели предвидели ее скорый конец. В 1926–1928 гг. по тем же местам прошла экспедиция фольклористов братьев Соколовых. Они записали 370 былин от 135 сказителей и сделали неутешительный вывод: традиция быстрым темпом идет к полному вымиранию. Произошло явное измельчание репертуара, сказывание былин потеряло значение особого мастерства. Существенно изменился характер сюжетов: героические и фантастико-легендарные былины исчезали, гораздо большую популярность приобрели былины романтического и балладного характера, с семейно-бытовыми и любовно-драматическими сюжетами. Если Гильфердинг считал, что на Кенозере «как бы сам воздух пропитан былинной поэзией», то в 20-е годы XX века приходилось подолгу разыскивать стариков, знающих былины. Даже в глухом Олонецком крае ситуация вплотную подошла к тому положению, какое было отмечено в районах, теснее связанных с культурными центрами. Былинный эпос в крестьянской среде определенно и безвозвратно отмирал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
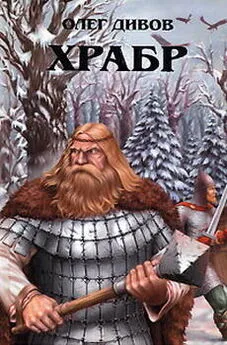

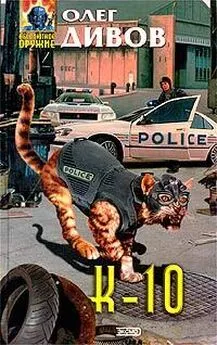
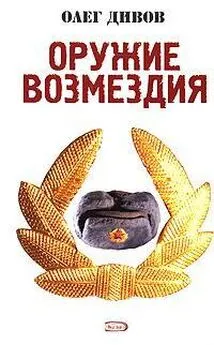
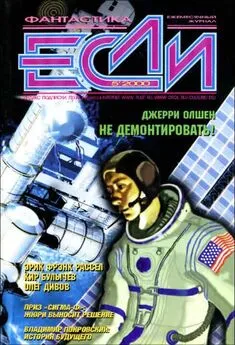


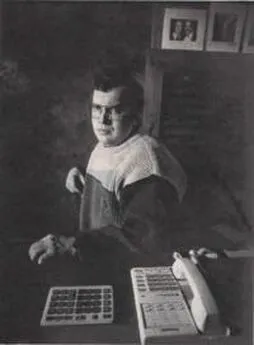
![Олег Дивов - Русский фронтир [антология]](/books/1093353/oleg-divov-russkij-frontir-antologiya.webp)