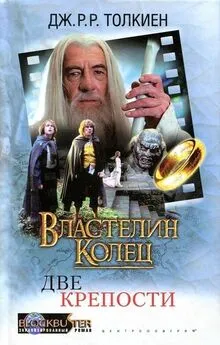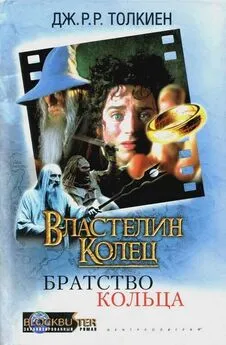Джон Толкин - Властелин Колец [litres]
- Название:Властелин Колец [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2016
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-092791-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Толкин - Властелин Колец [litres] краткое содержание
Существует свыше десятка переводов трилогии на русский язык. В данное издание вошел перевод В. Каррика, М. Каменкович.
Властелин Колец [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
164В Средьземелье – особенно у тех, кто наделен большей мудростью, – сильна была традиция, известная многим древним и современным религиям и заключавшаяся в вере в то, что говорить о чем-либо, называть что-либо или кого-либо по имени – значит устанавливать мистическую связь с вещью или существом, «вызывать» ее (его), открывать ей (ему) себя. Это относится и к силам светлым (напр., запрет Ветхого Завета – упоминать имя Божие всуе); ср. умалчивание Гэндальфа, Элронда и других о Валар(ах), Едином (Боге) и других высших силах Средьземелья. В иудео-христианской традиции по-настоящему праведный или святой человек никогда не станет упоминать имя Бога отдельно от молитвы к Нему.
Темным же силам упоминание о них придает власти и энергии. Часто цитируемый в этом комментарии Флоренский пишет: «…слово, как посредник между миром внутренним и миром внешним, то есть, будучи амфибией, живущею и там, и тут, устанавливает, очевидно, нити своего рода между тем и другим миром, и нити эти, какими бы ни были они мало приметными взору позитивиста, суть, однако, то, ради чего существует самое слово, или, по крайней мере, суть первооснова всех дальнейших функций слова. Эта первооснова, очевидно, имеет направленность двустороннюю, во-первых, от говорящего – наружу, как деятельность, вторгающаяся из говорящего во внешний мир, а во-вторых, от внешнего мира к говорящему, внутрь его, как восприятие, получаемое говорящим. Иначе говоря, словом преобразуется жизнь» (Мысль и язык. – Собр. соч.: В 3 т. М., 1990, т. 2, с. 252).
Так за мимолетным замечанием Гэндальфа скрывается ключ к пониманию взглядов самого Толкина на природу слова, коренящихся в христианском подходе к проблемам лингвистики.
165Арвен – синд. «царственная дева». Второе имя Арвен – Ундомиэль, что на кв. означает «дева вечера». Арвен родилась в ТЭ, когда эльфы уже предчувствовали скорое возвращение в Аман и вечную разлуку со Средьземельем. Поэтому самой прекрасной из эльфийских дочерей эпохи заката они дали имя Вечерней Звезды.
166 Элладан – синд. «звезда + человек». Элрохир – синд. «звезда + всадник».
167См. Приложение А, I, гл. 3.
168Один из спутников Бильбо Бэггинса в «Хоббите». См. прим. к «Хоббиту», гл. 1.
169См. «Хоббит», гл. 17.
170Дунаданы (правильно – Дун-Эдаин : синд. слово «человек» звучит в ед. ч. как адан , а во мн. как эдаин ) – в переводе с синд. «люди запада». Этим именем назывались потомки тех людей, которые некогда отплыли из Средьземелья на остров Нуменор (см. Приложение А, I, гл. 1, а также Сильм., книга «Аккалабет») и основали там королевство. См. также данный комментарий, прим. 199.
171Одна из линий, связывающая эльфов Толкина и эльфов из старинных английских сказок. В народных сказках часто повторяется мотив особой волшебной реальности, в которой живут эльфы и которая видна только им. Иногда человек может заглянуть в эту реальность, если эльфы ему помогут или если он воспользуется каким-нибудь волшебным средством, например эльфийской мазью. При этом все вокруг чудесно преображается, невидимое становится видимым и т. д.
Как пишет Шиппи (с. 39): «[Эльфы], говорит Толкин, могут быть:
1) «созданиями человеческого воображения», как думают о них почти все, 2) реальными существами, которые «существуют независимо от наших сказок о них» (Шиппи цитирует эссе Толкина «О волшебных сказках». – М.К. и В.К. ). Но 3) суть их деятельности, даже если они не более чем «создания человеческого воображения», в том, что они еще и творцы, фокусники высшего ранга, способные зачаровать своей красотой, заманить человека в «эльфийские полые холмы», откуда он появляется столетия спустя, сбитый с толку, не заметивший времени. Эльфы формируют образ «эльфийского искусства», самое фантазии; истории об эльфах – это составленные людьми фантастические истории о независимых фокусниках и выдумщиках». См. также прим. 430.
172Кв. «любящий море». Человек из Третьего Дома Аданов (Эдаин) (см. прим. к Приложению А, I, гл. 1). Сын Туора и Идрил. Рожден в Гондолине – одном из эльфийских королевств ПЭ. Туор принадлежал к числу величайших героев из племени Аданов (Эдаин) – людей. Идрил была дочерью эльфийского короля Тургона, правившего Гондолином. Свадьба Туора и Идрил состоялась в 503 г. ПЭ. Это был второй в истории случай бракосочетания эльфийской девы и человека. Когда Эарендил вырос, Туор и Идрил, снарядив корабль, отправились к берегам Амана, на Запад, но достигли они земли или нет – в точности не известно. Эарендил еще ребенком был перевезен из Гондолина в Арверниэн и со временем стал его князем. Он взял в супруги эльфийскую деву – Элвинг, происходившую по прямой линии от Берена и Лутиэн (см. прим. 144), – она была дочерью их сына Диора. На своем корабле по имени Вингилот Эарендил совершил много плаваний в поисках родителей и в надежде достичь западных берегов: он хотел испросить милости Валар(ов) к народам Белерианда, готовым пасть под натиском армий Мелкора (Моргота). Однако все было напрасно. Однажды, пока Эарендил был в плавании, на гавань в Арверниэне напали сыновья Феанора (см. ниже прим. 179), пытавшиеся захватить находившийся у Элвинг Сильмарил. Элвинг бросилась в море с Сильмарилом на груди, но Вала(р) Улмо обратил ее в чайку. Уцелели и сыновья Эарендила и Элвинг, маленькие Элронд и Элрос, – захватчики не убили их, но оставили умирать в пещере под водопадом, где их вскоре нашли живыми и здоровыми. Элвинг же достигла корабля Эарендила и опустилась на палубу. С Сильмарилом на борту им удалось пройти через завесу тени и достичь берегов Амана, где Эарендил воззвал к Валар(ам), умоляя их о милосердии. Валар(ы) вняли его просьбам, однако вернуться в Средьземелье Эарендил уже не смог – сын смертного, он ступил на земли бессмертных, а таким обратный путь был заказан. По воле Валар(ов) он взошел на корабль с Сильмарилом на мачте и вознесся в небо, став утренней звездой, которая подает надежду отчаявшимся. Миф об Эарендиле для Толкина – «зерно», из которого выросли все остальные легенды. ХК (с. 72) пишет, что впервые имя это – взятое из древнеанглийской поэзии – попалось Толкину на глаза еще в 1913 г., когда он был студентом Оксфордского университета. Вот эти строки из поэмы Кюневульфа «Христос»:
Eala earendel engla beorthast
ofer middangeard monnum sended!
(«Радуйся, Эарендел, ярчайший из ангелов,
светить над Средьземельем к людям посланный!»)
В словаре древнеангл. языка слово earendel означает «сияющий свет, луч», но в этом тексте оно имеет немного другое значение. Толкин, по ХК, интерпретировал его как образ Иоанна Крестителя – предтечи Христа (ср. православный канон св. Иоанну Предтече: «Недоуменным просветився просвещением, яко многосветлая звезда, мысленному Востоку предтекл еси» («Просветившись светом, которого нельзя понять умом, ты предварил духовный Восход, как яркая звезда»)). В то же время Эаренделом у англосаксов называлась Венера – утренняя звезда, появляющаяся на небе перед восходом. Кроме того, «утренняя звезда» – образ из Апокалипсиса («Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками… и дам ему звезду утреннюю» (2: 26–28)). Толкин вспоминал, что строки об Эаренделе «странно тронули» его. «Я почувствовал волнение, – словно во мне шевельнулось какое-то странное чувство, дотоле дремавшее. За этими словами стояло что-то очень далекое, странное и прекрасное, – что-то куда более древнее, чем древний английский, на котором эти строки были написаны» (ХК, с. 72). Строки поэмы «Христос» вложены автором в уста дохристианских пророков и патриархов, томящихся в области ада (согласно христианскому учению, в аду до пришествия Христа пребывали все люди без различия, праведные и неправедные). Пророки и праведники взывают к Ангелу-Посланнику, Эаренделу, чтобы тот освободил их из «тени смертной». Шиппи (с. 183) пишет, что, по-видимому, Толкин тщательно исследовал происхождение имени Эарендел и должен был знать, что похожее имя – Аурвандил – в «Младшей Эдде» носит спутник бога Трора. Палец Аурвандила стал звездой. Существует также средневековая немецкая поэма «Орендел», в которой рассказывается о сыне короля Оренделе; Орендел терпит кораблекрушение у берегов Святой Земли и, обратившись там в христианство, делается у себя на родине проповедником истинной веры. Итак, в слове «Эарендел» заключено два основных смысла – это источник света и источник надежды на христианское спасение. Но не только Иоанн Предтеча кроется за Эаренделом. Оказывается, слово «Эарендел» в поэме Кюневульфа использовано как перевод словосочетания «восходящий свет», причем латинский стих полностью читается так: «О Восходящий Свет, слово вечного света и солнце правосудия, приди и воссияй сидящим во тьме и тени смертной» (последние слова – цитата из псалма 106, 10–14, который по-старославянски звучит так: «…Седящыя во тьме и сени смертней, окованныя нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышняго раздражиша. И смирися в трудех сердце их, и изнемогоша, и не бе помогаяй. И воззваша ко Господу, внегда скорбети им, и от нужд их спасе я, и изведе я из тьмы и сени смертныя, и узы их растерза». Русский синодальный перевод: «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом: ибо не покорялись словам Божиим, и небрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами: они преткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их: вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их»). Этот текст традиционно считается пророчеством об избавлении скованного первородным грехом человечества от уз Ада сошествием в Ад Самого Христа. Итак, латинский стих обращен к Христу, и слово «Эарендел» обретает при сопоставлении с этим стихом еще одно измерение. В Сильм. образ Эарендила совмещает в себе все эти измерения. Миссия Эарендила – предстояние перед Высшими силами за народы Средьземелья, возможно, ценой собственной гибели; те, за кого он предстоит, виновны примерно в том же, в чем и грешники из псалма: они «не покорялись словам Божиим, и небрегли о воле Всевышнего». Здесь нельзя не вспомнить о миссии Христа, предстоявшего пред Отцом за падшее человечество и спасшего людей ценой крестной смерти. С другой стороны, Эарендил – не Христос: он лишь возвещает «сидящим во тьме» некую «высокую надежду», что можно прочесть как обещание Валар(ов) ниспровергнуть Моргота, но можно прочесть и расширительно – как пророчество о пришествии Искупителя и Избавителя. Звезда, возвещающая приход зари, была избрана древними символом пророка, возвещающего о приходе Искупителя. Христос и древнее язычество – эта проблема была особенно близка Толкину, который всю жизнь размышлял над судьбой «праведного язычника»: спасется он или погибнет в конце истории? – и о том, содержится ли в дохристианских языческих мифах доля истины. Проблема эта мучает христианскую совесть уже не первое тысячелетие. Хорошо известно презрительное замечание, брошенное в 797 г. Алкуином, диаконом Йоркским: «Что общего у Ингельда со Христом?» (Ингельд – один из второстепенных персонажей в «Беовульфе» и реальная историческая фигура) «Вечный Король правит небесами, а погибшие язычники рыдают в аду», – добавляет Алкуин. Однако Толкин встает на сторону противников Алкуина. Шиппи (с. 150) пишет, что идея спасения праведных язычников близка англичанам как никому. Переход от язычества к христианству в Англии совершился мирно, чуть ли не «полюбовно», и старые языческие храмы, как правило, не уничтожались, а естественно становились христианскими. Из уроженцев Британии, отстаивавших возможность спасения для праведных язычников, известны Утред Болдонский, идеи которого использовал в последней книге своего нарнийского цикла друг Толкина К. С. Льюис, а также оппонент строгого к язычникам св. Августина Пелагий и др. Посмертная судьба людей, живших до Христа, «падших и еще не спасенных, лишенных благодати, но не величия» (ЧиК, с. 18), глубоко беспокоила Толкина: он говорит в одной из своих лекций, которую мы только что процитировали, что жалость к этим людям, заставляющая более счастливых потомков хранить память о них, имеет «непреходящую ценность» (там же). В своих книгах Толкин предпринимает смелый и необычный эксперимент: он моделирует, если можно так выразиться, мир «праведных язычников» (если понимать под словом «язычники» просто людей, живших в дохристианскую эпоху), мир, вобравший в себя все лучшее, что было в язычестве, и отвергший его темные стороны, которых, по убеждению Толкина, в нем было предостаточно. Шиппи (с. 149) пишет, что Толкин никогда не питал особой любви к настоящим языческим мифам, да и к людям, которые чрезмерно ими увлекаются. «Я не из тех, – писал он, – кто готов везде и всюду видеть одноглазых и рыжебородых богов и божков». Не верил он ни в «старые религии», ни в «демонические культы», входившие в моду в его время. Толкин прекрасно знал, что представляло из себя подлинное древнебританское язычество, – взять хотя бы человеческие жертвоприношения: кельтские жрецы, друиды, топили осужденных в болотах. Об этом писал еще Тацит. Во времена Толкина в Британском музее уже можно было видеть так называемого «Толлундского человека» – жертву ритуального убийства, случайно сохранившуюся в болотной глине. В «чистом виде» толкиновского мира «праведных язычников», исповедующих единобожие и брезгующих языческими обрядами, на земле не существовало никогда – хотя в Библии есть загадочное упоминание о неком языческом царе Мелхиседеке, который благословил Авраама: о Мелхиседеке говорится, что тот был «священником Бога Всевышнего». Весь мир Толкина – царство царя Мелхиседека, окруженное «настоящими» языческими государствами и ведущее против них борьбу. Этот мир открыт проникающим в него из будущего лучам Благой Вести – Евангелия, хотя сами его обитатели находятся в полном неведении относительно будущего, и все, что у них есть, – это надежда. В этом мире, которого в чистом виде никогда не существовало, вопрос о спасении «праведных язычников» обретает новое звучание. Толкин ощущал глубинное родство ВК и Сильм. с древнеангл. поэмой «Беовульф». Она также написана христианином, повествует о язычниках – и в то же время о язычниках, которых никогда не существовало, так как их мир лишен каких бы то ни было характерных для язычества черт (главная из которых – служение богам, или идолам, не говоря уже об инцесте, рабстве, полигамии и прочем) и строго монотеистичен, причем на основе Ветхого Завета. Наравне с людьми в «Беовульфе» фигурируют традиционные персонажи языческого эпоса, драконы и чудовища, однако их существованию подыскано библейское объяснение…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Джон Толкин - Властелин Колец [litres]](/books/1083967/dzhon-tolkin-vlastelin-kolec-litres.webp)

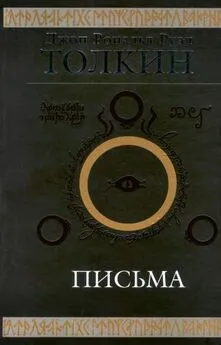
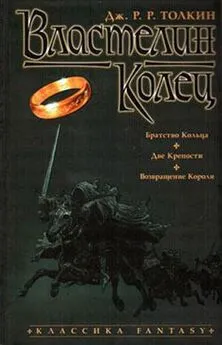
![Джон Толкин - Хоббит [litres]](/books/1061259/dzhon-tolkin-hobbit-litres.webp)