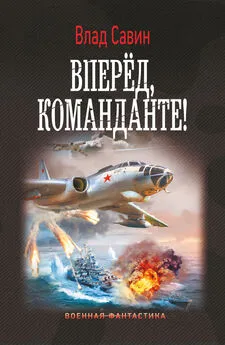Владислав Савин - Зеркало грядущего [litres]
- Название:Зеркало грядущего [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-118345-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Савин - Зеркало грядущего [litres] краткое содержание
Но победа в войне – лишь этап на пути строительства коммунизма, без ошибок, допущенных в СССР нашей истории. И становится ясно, что для победы коммунизма необходим «рабочий проект» – четко сформулированная Идея.
А мы живем и строим социализм, попав в страшное и прекрасное время – когда за свое счастье надо драться. Мы не знаем, каким станет здесь светлое будущее для моей страны. Но точно знаем, каким оно не должно быть. И если история будет против, решив, что «Россия не имеет будущего» – то тем хуже для истории.
Зеркало грядущего [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Все равно, в ваших книгах, хороших книгах, – но, уж простите, вот лично я связи с теми, кто сейчас живет, не чувствую. Верно сказано было, «Туманность Андромеды» могла вполне относиться и к красным людям с Эпсилон Тукана, если чуть лишь изменить. В «Часе быка» ваша Фай Родис прямо говорит, что главная наука на Земле – это история. А вот нигде не упоминается, что тогдашние школьники, и в экскурсиях по историческим местам.
– Почему же, истории там уделяется большое место, – ответил Ефремов. – Что было упомянуто, как работы школьников: строительство деревянного корабля по древним методам и плавание на нем, собирание материалов по древним народным танцам и их восстановление… Конечно, все это относится к куда более древней истории, чем наш двадцатый век, а вам хочется, чтобы именно наше время и наши места были отмечены в истории мира «Туманности Андромеды»… Хорошо, этот вопрос я доработаю – будет в новой редакции и память о прошлом, что-то, нам хорошо знакомое, сохранится и до пятого тысячелетия, как исторические памятники. Но не все, конечно, – надо учитывать и волнения конца ЭРМ, предшествующие наступлению коммунизма. Что-то из нашего наследия не смогло пережить эти времена, а что-то позже было восстановлено и отреставрировано уже нашими потомками…
– А почему в вашей книге описываете общественное воспитание детей, Иван Антонович? – задала следующий вопрос Анна Лазарева. – Ведь оно и сейчас налицо. Вот мои дети, например, ходят – в детский сад, в школу, затем еще кружки и спортсекции в плане. И если прикинуть время в сутках, за минусом сна, – то выйдет уже, что общество их учит и воспитывает больше, чем лично я. Но в вашем идеальном мире, как я понимаю, предполагается детей после года от родителей отнимать, а дальше четыре цикла по четыре, в полном общественном воспитании. Для вашего сведения – в мире «Рассвета» есть такая мерзость, как «ювенальная юстиция», впрочем, о том, Иван Антонович, вы у Олега Верещагина могли прочесть, книжки в вашем списке есть. Когда детей у живых родителей изымают под формально благим предлогом общественных интересов, причем на словах это может звучать ну прямо как в вашей «Андромеде». И после банально продают – в лучшем случае богатым бездетным парам, желающим сына, слугу, телохранителя. А в худшем – в бордели для любителей малолеток, или на органы для больных наследников миллионеров. Я вам материалы дам, даже не из мира «Рассвета», а из настоящего времени. Вам известно, что во Франции в двадцатых пробовали детей в приютах, как в инкубаторах, растить, без родителей? А что сейчас в Канаде происходит – про «сирот Дюплесси», которых официально и по закону у родителей забирают, на ночь лучше не читать. Ну и позже на социалистической Кубе всерьез пытались ввести массовое воспитание детей в интернатах, чтоб родителей от труда и обороны не отвлекать. Результаты были страшные – и смертность запредельная, и моральные уроды вырастали. Социализация – это жизненно необходимый этап, когда маленький человечек учит, что есть «мое» и «чужое», – не пройдя его, выйдет звереныш, для которого существует лишь «мое» и «хочу взять». С психологией «вот хочу и отрежу вам голову», а что, отчего нельзя?
– Дорогие товарищи из будущего и настоящего, – вздохнул Ефремов. – Если вы хотите раскрыть мне глаза на то, как ужасно общественное воспитание в странах капиталистического мира – то, например, Чарльз Диккенс уже замечательно сделал это гораздо раньше. Но какой смысл в этих ссылках? Отношение к рабочему классу в социалистических странах, например, тоже совсем не такое, как в капиталистических. И детей мы сейчас воспитываем совсем не так, как в девятнадцатом веке. Так почему вы, критикуя предположения о воспитании будущего, продолжаете его сравнивать исключительно с сегодняшним днем, причем выбираете непременно худшие примеры для сравнения?..
– Иван Антонович, мы живем здесь и сейчас. И воспринимать все, вами написанное, будут согласно сегодняшним критериям и нормам. А в недалеком будущем у нормальных людей мира «Рассвета» на слова «общественное воспитание» уже закономерная реакция, ну как бы у вас на «высшую арийскую расу» и «славянских недочеловеков». Поскольку там были случаи, когда детей изымали по принципу «больше галочек» и из семей нормальных, а не таких, где родители алкоголики и тюремные сидельцы. Реальная история – в селе дом сгорел, и восьмилетний мальчик из огня вытащил братика и трех сестер, за что его сам глава МЧС наградил медалью. А после и его, и остальных в детдом, и родителям не отдают, «у вас условий для содержания детей нет, вы погорельцы». Так что я чисто по-человечески товарища Кунцевича отлично понимаю. И подобная же ювенальная юстиция будет в капиталистических странах и в нашем мире. Так зачем создавать нашей стране и коммунизму лишние трудности уже сейчас, провозглашая идеи, до которых мир еще не созрел? Идеи, которые будут опошлены, доведены до абсурда, испоганены и в конечном итоге использованы для взращивания нового фашизма. И учтите, что как мать, я своих детей уж точно ни на какое «общественное воспитание» не отдам!
Говорит это, и на Ефремова смотрит будто с сожалением – считает, наверное, что с выбором ошиблась, в Тайну посвятив? Зато итальянка с ней рядом на Ивана Антоновича глядит волком, будто разорвать готова, Юрий Смоленцев ей даже свою ладонь на ее руку положил, чтобы успокоить.
– А как относились к обсуждаемому нами – читатели из пятидесятых годов мира «Рассвета»? – перебил ее Ефремов. – Раз уж вы говорите именно о сегодняшних критериях и нормах – то есть современных советских. Было массовое недовольство общественным воспитанием в мире «Туманности», критика читателями именно этого момента?
– Откровенно ответить, Иван Антонович? – спросил Адмирал. – Насчет пятидесятых годов свидетелем не был, но кое-какую критику тех лет читал. Недовольства этим там не помню, хотя критиковали ваш роман много – но все за другое. А вот в мое время уже считали это самым слабым местом вашей теории, могу засвидетельствовать. В семидесятые-восьмидесятые, последние годы СССР, отношение к вашему миру «Андромеды» было скорее уважительным, но вот этот момент, с детьми, старались или вовсе не упоминать, будто и не было его, или писали в критике, ошибся классик, бывает. Ну категорически не вписывалось «общественное воспитание» в эпоху отдельных квартир и личных дач, когда «мое» считалось императивом. Можно это за массовое недовольство считать?
И добавил, чуть помолчав:
– Хотя можно и саму ту эпоху считать – как откат. После того, как нашим людям долго и принудительно навязывали общественное – а как пружина разжалась, то пошло все в обратную сторону, со страшной силой. Как, например, старики, муж и жена, обоим под восемьдесят, обменивали жилплощадь, большую комнату на Петроградке, на однокомнатную квартиру в Красном Селе – и какая радость, «наконец свое, не коммуна, дожили». Это при том, что всю свою жизнь они у них это чувство «мое» вытравливали, никогда у них отдельного жилья не было, а все казармы, бараки, коммуналка – а вот, оказывается, не вытравили, а лишь вглубь загнали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владислав Савин - Зеркало грядущего [litres]](/books/1079059/vladislav-savin-zerkalo-gryaduchego-litres.webp)
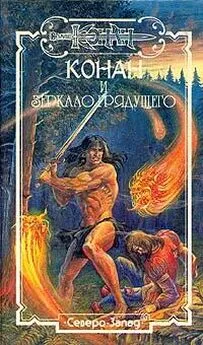
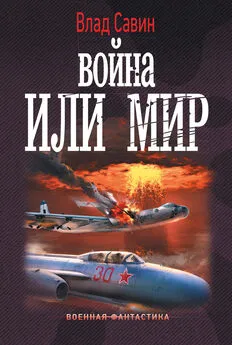
![Владислав Савин - Красный бамбук [litres]](/books/1062479/vladislav-savin-krasnyj-bambuk-litres.webp)
![Владислав Савин - Красный тайфун : Красный тайфун. Алеет восток. Война или мир [сборник litres]](/books/1071173/vladislav-savin-krasnyj-tajfun-krasnyj-tajfun-a.webp)
![Владислав Савин - Красные камни [litres]](/books/1079784/vladislav-savin-krasnye-kamni-litres.webp)
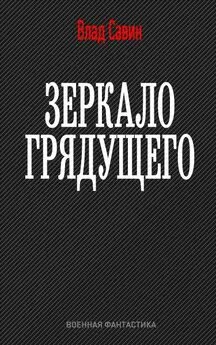
![Владислав Савин - Рубежи свободы [litres]](/books/1089872/vladislav-savin-rubezhi-svobody-litres.webp)
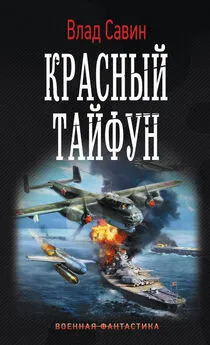
![Владислав Савин - Вперед, Команданте! [litres]](/books/1144924/vladislav-savin-vpered-komandante-litres.webp)