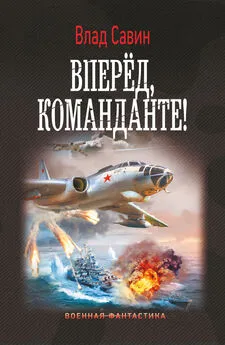Владислав Савин - Зеркало грядущего [litres]
- Название:Зеркало грядущего [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-118345-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Савин - Зеркало грядущего [litres] краткое содержание
Но победа в войне – лишь этап на пути строительства коммунизма, без ошибок, допущенных в СССР нашей истории. И становится ясно, что для победы коммунизма необходим «рабочий проект» – четко сформулированная Идея.
А мы живем и строим социализм, попав в страшное и прекрасное время – когда за свое счастье надо драться. Мы не знаем, каким станет здесь светлое будущее для моей страны. Но точно знаем, каким оно не должно быть. И если история будет против, решив, что «Россия не имеет будущего» – то тем хуже для истории.
Зеркало грядущего [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– А общий язык Земли? – снова начал Кунцевич.
– А что не так с общим языком?
– Почему он – на основе санскрита? Так не бывает! Я даже у лингвистов уточнял, как обычно создаются общие языки, когда из множества племен на данной территории возникает нация. Никто не придумывает что-то принципиально новое – а мешают в один котел все существующие диалекты, естественно, с преобладанием доли наиболее культурных. И возникает через века нечто, в котором ясно угадываются прежние черты, причем и прежние языки не вымирают окончательно – вот товарищ Смоленцева подтвердит, что до сих пор в ее родной Италии на острове Сицилия не так мало людей пользуются своим оригинальным языком, который житель Рима просто не поймет. Да и во Франции еще живы те, кто говорит на провансальском, а в Великобритании – на гэльском. То есть надо понимать, что в мире «Андромеды» в «эру Мирового воссоединения» индийцы составили большинство, причем наиболее развитое? При том, что Индия даже в двадцать первом веке – это страна далеко не передовая, с великим множеством еще феодальных пережитков – да даже и в ней санскрит – это как у нас церковнославянский, многие ли его знают? Оттого, по идее, в языке будущего должно сохраниться множество слов с русскими, английскими, немецкими, испанскими, итальянскими корнями. Но никак не санскрит!
– Во-первых, напомню, что в самой «Туманности Андромеды» ровным счетом ничего не сказано о происхождении и свойствах всеобщего языка. Он там просто есть, – произнес Ефремов. – Таким образом, требования убрать этот момент из «Туманности» вообще бессмысленны, ибо его там и не было. Вы, должно быть, имеете в виду упоминание о санскрите в «Сердце змеи» – повести, которая мне самому не кажется прямым продолжением «Туманности», скорее, альтернативной историей коммунистической Земли.
Во-вторых, там ясно сказано, что санскрит в качестве основы для всеобщего языка был выбран исключительно потому, что он лучше всего подходил для языка-посредника в переводных машинах. Как вы верно заметили, родным языком для абсолютного большинства индийцев не является.
Так почему именно он? Полагаю, потому, что именно санскрит считается наиболее близким к общему праязыку всей индоевропейской семьи языков, ныне распространенной от Индии до обеих Америк. Ну и моя личная привязанность к культуре Индии, конечно, могла тут сыграть свою роль. Не буду утверждать, что я, как автор, совершенно свободен от таких слабостей.
Но главное – поскольку в «Сердце змеи» прямо сказано, что санскрит стал основой всеобщего языка совершенно случайно – просто потому, что наиболее подходил в качестве основы для машинного языка-посредника переводных машин, – это само по себе лишает смысла все рассуждения товарища Кунцевича о том, что индийцы должны были обязательно стать наиболее многочисленным и передовым народом Земли. Если бы в качестве машинного посредника лучше всего подошел бы какой-нибудь язык исчезнувшего индейского племени – тогда выбрали бы его… Назначить же на роль всеобщего языка какой-то один из ныне существующих – это, сами понимаете, грозило бы обидами и обвинениями в шовинизме от всех остальных народов, – полушутя, заметил Иван Антонович. – Зачем же мне их ссорить друг с другом?
– Можно мне сказать? – Анна Лазарева подняла руку, ладонью вперед. – Иван Антонович, вот я свободно говорю по-немецки, по-итальянски, английский знаю чуть хуже, но у меня не получается на чужом языке думать. Услышав или прочтя чужую речь, я сначала внутренне перевожу ее на русский, и лишь тогда могу понять. Точно так же, желая что-то сказать, я сначала мысленно формулирую на русском, и только после могу произнести. Что и утомляет дополнительно, и ведет к потере времени – в чрезвычайной ситуации даже промедление на секунду может быть губительным, тут пример есть, когда в Китае наших летчиков пытались было выдать за «товарищей Ли Си Цынов» и обучали командным словам на китайском, и вроде даже на учениях что-то получалось – но как воздушный бой, то в эфир исключительно русская речь, и ничего с этим не сделать. А главное, не всегда совпадают понятия, смысловые оттенки у, казалось бы, однозначных слов. Следовательно, язык искусственно упрощается, что ведет и к упрощению мышления. И это происходит, даже когда языки, казалось бы, близки – поинтересуйтесь, что происходило в двадцатые на Советской Украине, когда там пытались приказом свыше ввести обязательный украинский язык вместо русского, в Академии наук есть уже издания, анализирующие те события с точки зрения и лингвистики, и социологии. Это, повторяю, близкие языки одной группы – что же будет при волюнтаристском переходе на язык чужой? Вряд ли общество будущего могло позволить себе роскошь тотального оглупления, даже на переходный период. Не говоря уже о том, что сокровища мировой литературы абсолютно достоверно на чужой язык не переводятся в принципе, из-за той же разности в понятиях – и фактически, говоря, например, о переводе Шекспира, подразумевается, что переводчик, сам писатель достаточно высокого уровня, сумел создать творение «по мотивам и максимально близкое к сюжету». Вот отчего сейчас у нас в СССР немецкую философию и литературу преподают исключительно в Калининградском университете и на немецком языке. И отчего машины с их формальной логикой еще долго не научатся делать хороший перевод – лишь так называемый подстрочник, полуфабрикат для дальнейшей обработки, если говорить о художественных текстах. Но вряд ли в коммунистическом будущем примут за общий и обязательный – язык, пригодный лишь для сухого обмена информацией в «телеграфном» режиме. Даже если принять, что компьютеры будущего совершеннее вот этого, – тут Анна взглянула на ноутбук, – тогда им не потребуется искусственная прокладка. Если такой язык возник, значит, он был нужен – потому что компьютеры не справлялись с богатством живого языка, который в принципе многозначен, там каждое слово может иметь несколько значений, и индивидуально, и в составе фразы, в зависимости от контекста. Опять же, имеем корректный пример – отчего не состоялся эсперанто в качестве общемирового? Именно из-за своей абсолютной логики.
– Вы не учли еще одной возможности, – ответил Ефремов, внимательно слушавший все рассуждения Ани, – что язык сначала был введен как названная вами «прокладка», исключительно для упрощенного перевода, а затем развился, обогатился, стал полноценным языком и в этом качестве вытеснил остальные. Хотя если уж считать все три книги частями одного целого, то из «Туманности Андромеды» и «Часа быка» нигде не следует, что на Земле не осталось людей, говорящих на местных языках, а тем более, что это под запретом. Но не буду спорить – если вы считаете, что именно описанное мною происхождение всеобщего языка совершенно неправдоподобно даже для научной фантастики, или больше того – вредно по своему влиянию на читателей, то я, конечно, удалю из «Сердца змеи» эпизод с санскритом – пусть всеобщий язык появится иным путем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владислав Савин - Зеркало грядущего [litres]](/books/1079059/vladislav-savin-zerkalo-gryaduchego-litres.webp)
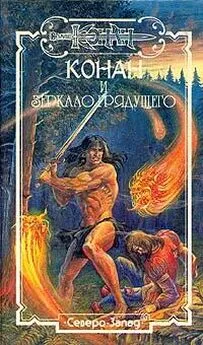
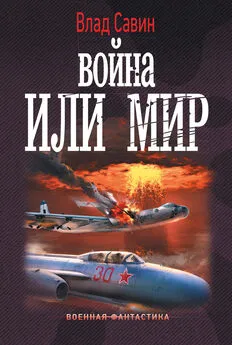
![Владислав Савин - Красный бамбук [litres]](/books/1062479/vladislav-savin-krasnyj-bambuk-litres.webp)
![Владислав Савин - Красный тайфун : Красный тайфун. Алеет восток. Война или мир [сборник litres]](/books/1071173/vladislav-savin-krasnyj-tajfun-krasnyj-tajfun-a.webp)
![Владислав Савин - Красные камни [litres]](/books/1079784/vladislav-savin-krasnye-kamni-litres.webp)
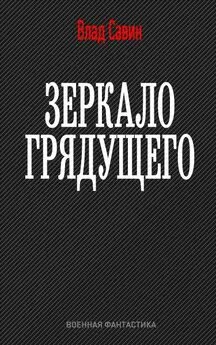
![Владислав Савин - Рубежи свободы [litres]](/books/1089872/vladislav-savin-rubezhi-svobody-litres.webp)
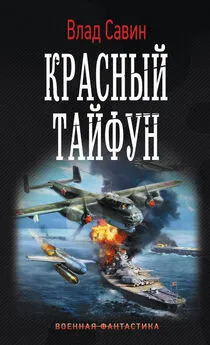
![Владислав Савин - Вперед, Команданте! [litres]](/books/1144924/vladislav-savin-vpered-komandante-litres.webp)