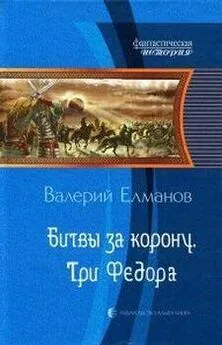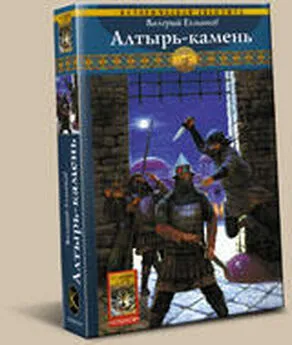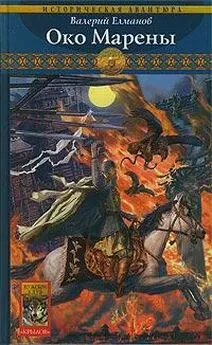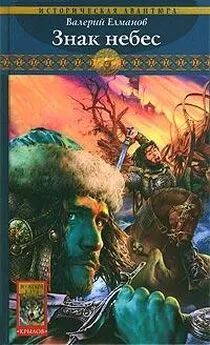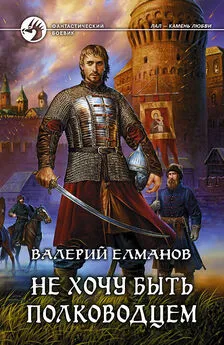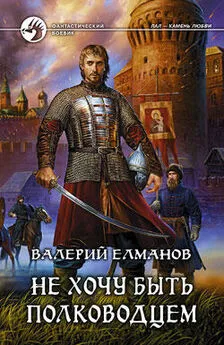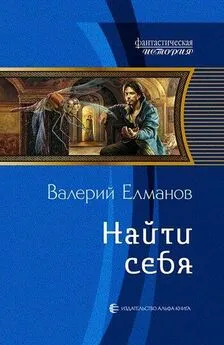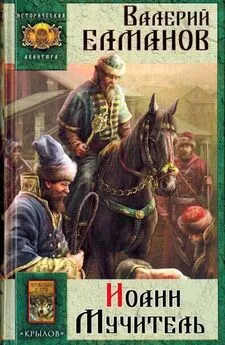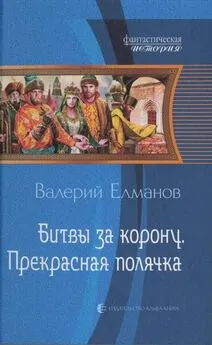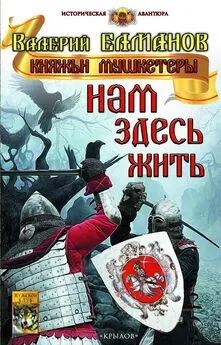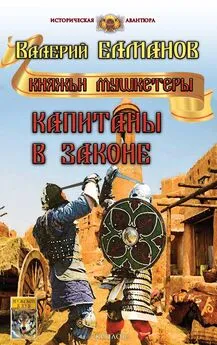Валерий Елманов - Битвы за корону. Три Федора
- Название:Битвы за корону. Три Федора
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Елманов - Битвы за корону. Три Федора краткое содержание
Но колесо крутится без остановки, начав неумолимо опускаться вниз, ибо в дело вмешивается ревность Федора Годунова. Ее умело возбуждает невеста будущего царя, молодая вдова Марина Мнишек, жаждущая привести всю Русь в католичество. Да плюс еще и зависть бояр, возглавляемых Федором Никитичем Романовым.
А тут вдобавок ко всему нежданный визит под Москву огромного войска Кызы-Гирея. Ну какая иуда подсказала крымскому хану, где найти самых дорогих для сердца будущего царя заложниц – невесту и родную сестру?! И теперь юному Годунову не остается ничего иного, как безропотно выполнять все требования хана. Вот только не в натуре Россошанского покоряться грубой силе...
Битвы за корону. Три Федора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но казанский владыка продолжал помнить про живописцев и на то у него имелись свои резоны. Касаемо русских иконописцев, сбиваемых с панталыку, митрополит частично был прав. Никто их, разумеется, не сбивал, но они сами сбивались….
Еще когда Микеланджело находился в Москве, нашлось немало желающих подивиться на его огромную икону, каких отродясь не бывало – я про Самсона. И, разумеется, в первую очередь, иконники [15] Так на Руси в то время называли иконописцев.
, приходившие из близлежащих монастырей. Глядевшие делились на две категории. Кое-кому из них нравилось и они сами пытались научиться малевать так же. Вторая категория приняла труд итальянца в штыки и поначалу пыталась открыть ему глаза на допущенные ошибки. Мол, по византийским канонам совсем не так положено рисовать Самсона. Да и нимба вокруг головы нет – а что за святой без нимба? А впрочем, какие там каноны, когда все не так и все неправильно, начиная с самых азов. А приглядевшись к лицу богатыря и вовсе приходили в ужас от явного сходства со мной. Откуда узнали? Так ведь посмотреть на суд престолоблюстителя в прошлом году собиралось чуть ли не половина Москвы, а монахам из кремлевских монастырей сам бог велел занять место в первых рядах. Ну и на меня внимание обращали, благо, подле кресла Годунова и стоял один-единственный человек, потому и запомнился.
Первым обнаружил несомненное сходство некий старец Александр из Чудова монастыря. Своими сомнениями сей иконник поделился с настоятелем. Тот ринулся к патриарху, но он отмахнулся. Однако слухи множились и вскоре (меня уже не было, уехал в Прибалтику) к святителю Игнатию с тем же самым пришло еще несколько иконников из мастерских Троице-Сергиевской обители. Да не одни, а во главе со своим архимандритом отцом Иосафом. Примирительная речь патриарха воздействия на них не возымела, но против авторитета не попрешь и они затихли. К тому же святитель предпринял кое-какие меры, аккуратно перетолковав с Годуновым, после чего вся четверка и укатила в Кологрив.
Час ревнителей православия пробил, когда в Москву прибыл владыка Гермоген, к которому они немедленно направились. Теперь их жалобы заключались не только в том, что иноземные богомазы кощунствуют, но и в том, что они сбивают с пути истинного праведных людишек, подразумевая под последними иконников из числа молодых.
И ведь не преувеличивали. Действительно, кое-кто из молодых богомазов Троице-Сергиевского монастыря соблазнился новизной. И не пацанва из числа служек иконописной мастерской, коим кроме как размешивать краски ничего не доверяют. У тех, кому дозволялось трудиться над образами, хотя и по мелочи (одежды раскрашивать и всякое такое), тоже разгорелись глаза. Оно и понятно – надоело ребяткам всякий раз перерисовывать одно и то же с древних образцов, а добавить что-то свое и не помышляй – тяжкий грех. Молодость же требует настоящего творчества, а тут нате пожалуйста, вот оно. И когда художников отправили в Кологрив, число жаждущих приобщиться к неслыханной новизне не уменьшилось и кое-кто из богомазов отправился вслед за ними.
Но закончилось плохо. В результате очередного вмешательства Гермогена их количество резко сократилось. Исчезли они. Нет, не раскаялись, но в монастырских тюрьмах могучие двери, крепкие засовы с замками и надежная стража – не вырвешься. Об этом мне поведал послушник Кутья из той же Троице-Сергиевской обители. Этот тоже жаждал научиться новому, но его больше привлекали… травы. Вообще-то надо было иметь немалое мужество, дабы пасть в ноги бабе, то бишь моей ключнице, с просьбой взять его в ученики. Он-то и сообщил, что все до единого под затвором, ибо на них наложена строгая епитимия. Да мало того, они отлучены от любимого дела. То есть новое отняли, а к старому подпускать не решились – мало ли что сотворят.
Наверное, не стоило мне влезать, но я пожалел парней. И потом, откуда ж взяться русским художникам, если такие запреты и впредь останутся в силе. Значит, рано или поздно придется вмешиваться. Правда, время было весьма неподходящее, со своими бы делами разобраться. И без того на мне грехов, как на барбоске блох, да и контакт с Гермогеном после врученных ему мною книг едва стал налаживаться, но…
Во-первых, кое о ком Рубенс со Снайдером отзывались весьма и весьма. Мол, может выйти толк из ребяток. Конечно, им еще учиться и учиться, но со временем… А во-вторых они показали мне наброски иконников. И, поглядев на них, особенно на три вещицы некоего послушника Назария, которому по словам того же Рубенса, не больше четырнадцати годков от роду, даже я, профан в изобразительном искусстве, понял: у мальчишки явный талант и дать ему зачахнуть – тяжкий грех. Причем не тот грех, надуманный или вообще высосанный из пальца, в которых навострился обвинять меня Гермоген, но настоящий, перед собственной совестью.
Да, насчет учебы фламандцы правы, ему учиться и учиться, но перенимает-то он влет. Вон как лихо разобрался с перспективой. А ведь она на картинах совершенно иная, чуть ли не противоположная иконам. Образно говоря, если на картине это отображение того, как человек видит мир (сходящиеся на горизонте рельсы), то на иконе параллельные линии наоборот, расширяются в пространстве. Да и самого пространства как такового нет. А свет? В картинах он естественный, отдаленные предметы как бы размыты в дымке, а на иконе внешний источник света отсутствует, ибо исходит от ликов и фигур, изображенных вдобавок с явным несоблюдением пропорций.
Словом, отличий множество и все они огромны. И не потому, что у наших богомазов нет элементарных навыков в рисовании. Просто задачи у иконы и картины разные.
Так вот если на первом эскизе Назария было понятно, чему и как учили его мастера-иконники, то на третьем явственно заметно, что он понял, осознал, усвоил и внедрил на практике то новое, что увидел у Рубенса. Не до конца, разумеется, но основное. А ведь переучиваться куда тяжелее, чем учиться. Да и у остальных послушников – Аввакума, Насона и Никифора из Троице-Сергиевой лавры тоже несомненные способности.
И я отправился к настоятелю Троице-Сергиевского монастыря отцу Иосафу. Был он ветх летами и, как я узнал, большой поклонник старины. Вот и чудесно. Значит, примет кое-что из числа проклятых сокровищ Иоанна Грозного. Я ведь, поразмыслив, отдал Гермогену для его епархии далеко не все святые книги, но лишь малую часть, оставив основное в качестве… оплаты. Задолжал Дмитрий монастырям, назанимав у них незадолго до гибели изрядные суммы, и я решил расплатиться книгами, но не ими одними. Для выплаты тридцатитысячного долга тому же Иосафу нескольких евангелий и прочих редкостных книжиц маловато, а потому я прихватил с собой в двух сундуках еще на двадцать пять тысяч золота.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: