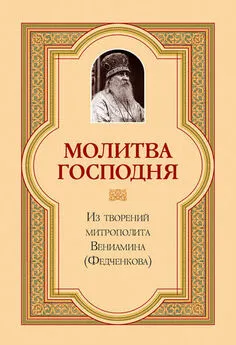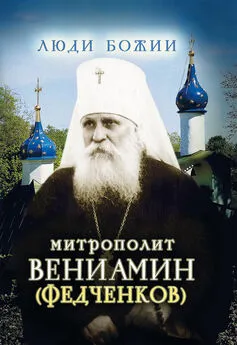Митрополит Вениамин (Федченков) - О вере, неверии и сомнении
- Название:О вере, неверии и сомнении
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Митрополит Вениамин (Федченков) - О вере, неверии и сомнении краткое содержание
О вере, неверии и сомнении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Больше и сильнее всего сверхъестественный мир открылся нам в явлении Сына Божия, воплотившегося в человеческом естестве и жившего с людьми на земле. О Нем очевидцы апостолы говорили: мы Его “видели”, “слышали”, “руками нашими осязали”. Но не столько это “видение” – в сущности все же человеческое – убеждало веровать в него, как Сына Божия, как, помимо прямого откровения, дела и сила Его, и само свидетельство Его о Себе. “…когда не верите Мне, – говорил Он евреям, – верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем” (Ин. 10, 38). “Столько чудес сотворил Он” им, – говорит ев. Иоанн с удивлением, – “и они не веровали в Него”, т. е. орган восприятия у них был плох (Ин. 12, 37). Впрочем, даже эти необычайнейшие дела, каковы: чудеса над больными, власть над природой и самой смертью, изгнание бесов и, больше всего, власть прощать грехи – даже они не могли принудительно заставить всех веровать в Божество Его. Ко всему этому нужно было еще внутреннее действие на человеческую душу, чтобы она раскрыла свои духовные очи и “поверила” или “узрела” Божество Христово. Здесь мы уже наталкиваемся на затруднение со стороны воспринимающих людей. Всех равно учил Христос и открывал Себя; но не равно они воспринимали это: отсюда ясно, что это уже зависело от какой-то порчи духовного органа их. В чем же эта порча – вскроется дальше. Пока же нам выяснилось, что основной способ познания религиозных вещей – тот же самый, что и в восприятии естественного мира: откровение бытия воспринимающему субъекту.
Следовательно, должно утверждать, что способы познания обоих миров – с гносеологической точки зрения – тождественны. Разны лишь самые миры по содержанию своему, но путь познания один: откровение. Так уравнялись в достоинстве познания и вера, и знание. Следовательно, если уж естественный мир познается опытом или открывается, то тем более должно признавать, что и сверхъестественный мир может познаваться не умом, а только открываться непосредственно.
С этой точки зрения чрезвычайно важно было религиозное движение XIV века, известное под именем споров о “Фаворском свете”. Православно-мудрствовавший святой Григорий Палама защищал ту точку зрения, что сверхъестественный мир и познается только сверхъестественным путем, чрез благодатное просвещение, или – что то же – благодатное откровение. А еретик Варлаам, каламбрийский монах, находившийся под влиянием рационалистического и схоластического своего времени (и воспитатель Петрарки), учил, что свет Фаворский был естественным, и вообще, что познание того мира совершается обычным естественным способом – умом и обычными чувствами… Какое заблуждение. По этому вопросу Церковь собирала четыре Собора; и в конце концов признала правильным учение св. Григория Паламы; сверхъестественный мир сверхъестественно и познается, или самооткрывается благодатно.
Так и доселе Церковь говорит в конце утрени: “Христе, Свете истинный, просвещаяй и освещаяй всякого человека,…да знаменается (напечатлеется, осияет, найдет) на нас свет лица Твоего, – и тогда в нем (посредством него) узрим свет неприступный” (непостижимый обычным путем, без этого осияния). И потому истинно говорит ап. Павел: Вы спасаетесь “верою”, но “и сие не от вас, Божий дар” (Еф. 2, 8), откровение Самого Бога нашему духу. Такое определение не только истинно; но оно дальше многое разъяснит нам о процессе веры и неверия. Чтобы закончить этот отдел, мы рассмотрим еще одно частное недоумение: о возможности получения непосредственного откровения. Неверующий может легко согласиться с тем положением, что большинство знаний естественного мира получается опытом, через откровение, потому что всякий опыт есть реальное ощущение познаваемого. Между тем, скажут они, между этими опытами знания и веры есть немалое различие: естественные опыты каждый может повторить и сам убедиться в реальности их; а про мир сверхъестественный этого нельзя сказать: не всякий может опытно “узреть” его, получить непосредственное откровение его. На это нужно ответить так, что никогда количество не решает вопроса: один ли человек видел что-нибудь или множество; один ли раз получилось познание чего-нибудь или многократно. Вопрос тут будет не в количестве откровений, а в качестве свидетелей: достойны ли они веры по нравственному своему состоянию. Если – да, то и одному человеку должно поверить; если – нет, то и стократное свидетельство будет сомнительно. Так бывает и в этом мире. Колумб один раз открыл Америку, и ему поверили, как лицу достоверному; а потом и сами проверили это опытно. И большинство научных “открытий” совершается одним человеком; а мир – даже и не проверяя после – принимает открытое на веру. И вообще большинство наших знаний воспринято нами от родителей и учителей на веру, и лишь кое-что потом проверяется нашим опытом.
То же нужно сказать и о посредниках сверхъестественных откровений. Даже еще больше. Их нравственные достоинства были настолько высоки и бесспорны, что им невозможно не веровать: пророки, апостолы, мученики, пустынники были столь святы, что их совершенно невозможно заподозрить в фальши. Тем более, что они свои слова подтвердили потом и подвигами жизни, а многие – и мученическою смертью. И если мы верим Колумбам, то тем паче обязаны верить Павлу, Петру, Иоанну, сонмам мучеников, подвижникам. Подобным образом можно сказать и об опытной проверке. Она бывает двояка: или каждый может убедиться через повторное исследование открытия, или через восприятие действий открытого предмета. Лишь отдельные единицы идут первым путем, большинство же из нас познает через действия. Например, почти никто из нас сам не видел радиоволн, а действие их все знаем: слышим пение, говорим за десять тысяч верст, видим картины того, что происходит в другом полушарии.
Подобно этому – и в вере: мы не видим Бога явно: но действия Его каждый может испытать и на себе еще в этой жизни. Об этом мы будем особо говорить в следующей главе, потому здесь лишь упоминаем кратко. Я, например, совершенно удовлетворяюсь откровением, полученным другими достоверными свидетелями. И больше всех верою доверился Иисусу Христу, в мир пришедшему. Его истинность засвидетельствована не только Им Самим (“Я есмь истина”) и не только его святостью и чудесами, но и самими врагами. Он Сам дерзновенно задал им вопрос: “Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?” (Ин. 8, 46). Никто из людей не мог бы так сказать о Себе. И следовательно, Христу невозможно не верить. Говорит ли Он о Себе, что Он – Сын Божий: верю Ему. Открывает ли Он, что у Него есть Единственный Отец – приемлю. Свидетельствует ли Он о Святом Духе, от Отца исходящем – это для меня несомненно. Уверяет ли Он, что “у Отца” Его на небе “обители многи суть” – истинно. Заявляет ли Он на кресте сораспятому разбойнику: “днесь со мною будешь в раю” – радуюсь. Свидетель – выше всяких сомнений!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: