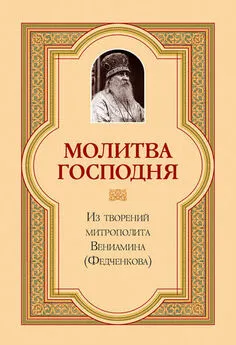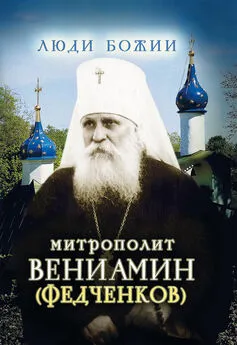Митрополит Вениамин (Федченков) - О вере, неверии и сомнении
- Название:О вере, неверии и сомнении
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Митрополит Вениамин (Федченков) - О вере, неверии и сомнении краткое содержание
О вере, неверии и сомнении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Помню одно переживание и о святых людях. Под праздник Троицы, стоя на клиросе, я пел стихиры о Ней. Непостижимая истина эта. Но вдруг читаю и пою:
– Тако пророцы и апостолы с мучениками проповедаша!
И блеснула ярко мысль: какие свидетели у нас о Троице! Великаны, гиганты духа! Кровью своей запечатлевшие проповедь свою! Им не только можно верить; им нельзя не верить! И твердо, и радостно стало на душе моей.
Вот таким образом постепенно “оправдалась” моя вера уже не на почве детской доверчивости и внутреннего влечения к ней от младенчества до академических занятий, а – и “от разум”. Но как видели мы, ум мой не объяснил мне веры, не дал познать сущность догматов; они остались непостижимыми; а только устранил с пути к вере препятствия, ложно приписываемые ему самому. И лишь с этой точки зрения можно говорить о “разумной вере”, как озаглавлена эта часть моих записок. А по существу все предметы веры остались вне и выше разума, но и это показал мне тот же самый ум и опыт.
Е) Прагматизм веры: целесообразность ее.
Вскрытые выше разумные достижения мои росли постепенно; но суть их была узрена мною в первые два года академии. А еще раньше, в семинарии, мне представляется весьма убедительным, даже будто неотразимым довод о пользе от веры. Я разумел, главным образом, тот смысл жизни, который дается верою. Это рассуждение всякому интеллигентному человеку давно известно. Именно.
Если признавать лишь один этот естественный мир, то смысл жизни почти гибнет: стоит ли жить, если все кончается с могилой? Жизнь оказывается пустой, как ни заполняй ее делами и удовольствиями. А сколько при этом еще скорбей, забот, болезней, мук, недоумений, страстей! Зачем, для чего все это терпеть? Не лучше ли все сразу оборвать самоубийством?! Одно мгновение – и нет “ничего”!
Совсем иное мировоззрение и ощущение бывает у верующего человека: есть еще другая жизнь, загробная, бесконечная и – для удостоившихся – блаженная, прекрасная. Есть Бог, Которым и для которого можно и должно жить. Тогда и эта кратковременная жизнь получает полновесный смысл. Такие рассуждения, лучше сказать, – живые чувства – переживались и мною лично. Мне совершенно ощутительным, осязаемым казалось переживание бессмыслицы жизни, если все кончается “здесь”. Помню, еще одного товарища по семинарии, С. Щ-ва, я спрашивал:
– Ну что же будет, если не признавать Бога и загробной жизни?
Он с хладнокровной усмешкой ответил:
– Закопают в землю. Лопух вырастет. Корова его слопает. Вот и все.
Ему это казалось хоть и не очень утешительным и приятным, но и не очень мучило – быть лопухом для коровы (правду сказать: лопухи-то у нас в России даже и коровы не “лопали” почему-то).
Но мне мучительно было даже допустить такой бессмысленный конец… И жуткий холод овладевал мною при одной мысли об этом! И тогда я почувствовал: почему люди кончают самоубийством от неверия! “Нечем жить”, – писали иногда самоубийцы перед смертью.
И жизнь показывает, что многие самоубийцы кончали расчеты с жизнью именно от неверия и бессмыслицы жизни. И это делали не только мальчики и девочки в 15 – 20 лет, но сознавали и большие ученые. В России была переведена и издана в сокращении “Исповедь безбожника”, члена французской “Академии бессмертных” (какая ирония!), Ле-Дантека. Там он с большой логичностью и откровенностью вскрывает эту бессмыслицу жизни неверующих. И утверждает, – ясно, это было и по уму, и по собственному опыту, – что самым умным для них было бы именно самоубийство. Если же, пишет он, мы не делаем этого, то вопреки всякому здравому смыслу, по тупому инстинкту и по трусости своей.
После в Париже мне пришлось слышать от одного профессора, будто бы тот закончил свою жизнь верой… Не знаю, насколько это верно; но при его воззрении – правдоподобно.
В русской жизни и литературе такой конец безбожия, как самоубийство, известен довольно широко.
В Дневнике своем Достоевский приводит несколько случаев самоубийства, по разным мотивам. Но никто из покончивших с собой не был верующим. Есть дневник Дьяконовой, где она подробно описывает свою жизнь, как она дошла до самоубийства.
И наоборот, вера спасает от самоубийства. Расскажу два случая из моего опыта.
Один бывший богатый человек, приехавший эмигрантом в Америку, рассказывал мне про себя следующее. Тяжелая жизнь в бедности, лишение богатства часто приводили его к мысли о смерти. Однажды вечером он направился к реке, чтобы потонуть. И вдруг он видит во тьме светящееся приглашение такого рода:
– Прежде самоубийства зайдите сюда!
Он зашел… Пастор стал беседовать с ним. И в результате – он остался жив и нашел себе место.
А вот другой случай.
За границей я был законоучителем и духовником в Донском кадетском корпусе. Пришел годичный срок смерти б. атамана К., застрелившего себя из револьвера. Назначена была всенощная, а завтра – литургия и военный парад. Да и самый корпус был назначен во имя самоубийцы атамана.
Я решительно отказался молиться церковно за него и служить службы. Директор обещался жаловаться на меня высшему духовному начальству моему. Я не возражал. Так служб и не было. Парад провели.
После обеда приходит ко мне высокого роста офицер (кажется, подполковник), в шинели нараспашку, и задает вопрос:
– Почему вы не служили ни вчера, ни ныне по нашем атамане?
Я объясняю ему, что так учит наша Церковь – за самоубийц нельзя молиться – если только они не покончили с собой в ненормальном состоянии. И сослался ему на каноническое правило св. Тимофея, патриарха Александрийского. Он выслушал меня внимательно и говорит:
– Ну, благодарю вас!
– За что? – спрашиваю я его удивленно.
– Значит, Церковь строго смотрит на это?
– Как видите!
– А я ныне хотел застрелиться. Но ваше (мое) поведение остановило меня.
И он остался жив, – слава Богу.
Почему это так – понятно. Если человек знает, что есть другая жизнь, и если за наше поведение придется еще и давать ответ пред Господом, то невольно задумаешься пред таким решением.
А еще более важно, что тогда жизнь – даже со всеми ее скорбями и неудачами – получает смысл: над нами есть Промысел Отца нашего небесного. Это всякий из нас знает.
А если Бога нет для нас, нет и смысла жизни! – Но если бы кто-нибудь счел переживания Кириллова и других людей лишь литературным вымыслом Достоевского или недоумием самоубийц, то вот нам открытое признание о себе самом другого писателя – Толстого. В своей “Исповеди” он рассказывает о своих мучительных переживаниях, когда он попадал в полосу неверия. Там он описывает свои шатания. Когда, пишет он про себя, была у него вера, он чувствовал себя спокойным, удовлетворенным. Но стоило ему лишиться ее, как его охватывала мысль о самоубийстве и он думал покончить с своей жизнью, “только не знал: пулей или петлей?” И он сам говорит, что некоторое время носил в кармане веревочку, чтобы повеситься. (См.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона под словом: “Толстой”.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: