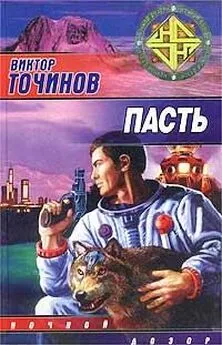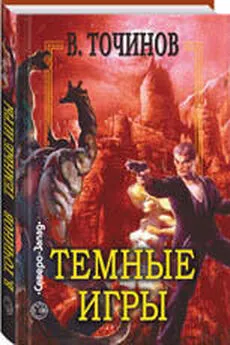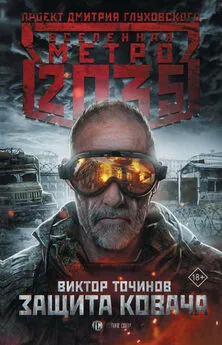Виктор Точинов - Усмешки Клио-2
- Название:Усмешки Клио-2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Точиновc70017a3-d89c-102a-94d5-07de47c81719
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Точинов - Усмешки Клио-2 краткое содержание
Вторая часть книги Виктора Точинова, состоящей из криптоисторических и фантастико-исторических расследований.
Где на самом деле лежит знаменитый «клад Котовского» – три грузовика, нагруженных золотом Одесского госбанка? Зомби получаются не только из людей, корабли иногда воскресают тоже, – известна ли вам посмертная судьба знаменитого крейсера «Варяг»? Кто виноват и как получилось, что за пять лет во главе государства Российского сменилось четыре правителя – но все при этом умирали «естественной» смертью?
На эти и другие загадки прошлых веков автор отвечает в присущем ему стиле – придерживаясь исторических фактов, но ничем не стесняя свою фантазию.
Усмешки Клио-2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Короче говоря, обычное полицейское судно. Затевать на нем бой с боевыми кораблями – все равно что милицейской патрульной машине ввязаться в танковое сражение под Прохоровкой. Или школьнику с рогаткой вмешаться в перестрелку спецназовцев. Надо думать, капитан такого судна любой другой страны в сложившихся условиях просто спустил бы вымпел. И никто бы его не осудил.
Наши вступили в бой. Вступили с единственной целью – принять на себя часть предназначенных «Варягу» японских снарядов. Мальчики для битья…
Но повернулось всё иначе: мальчики сумели-таки ударить, и ударить чувствительно. Воспользовавшись тем, что огонь японской эскадры сосредоточился на «Варяге», канонерка смогла подобраться поближе и пустить в ход устаревшие пушки. Причем с успехом: номерной японский миноносец отправился на дно, один из крейсеров был вынужден выйти из боя из-за пожара, а флагман «Асахи» получил серьезные повреждения. Самому «Корейцу» ни одного прямого попадания не досталось.
Они сделали свое дело, оставив славу другим. И затянутые илом обломки канонерки до сих пор лежат на дне залива Чемульпо – ни русским, ни японцам поднимать было просто неинтересно…
…Сейчас все больше русских путешествует в Южную Корею. Если вдруг будете в морском круизе проходить мимо города и порта Инчхона (так теперь зовется Чемульпо), то бросьте в память о героях «Корейца» пару гвоздик в воду. Говорят, в Корее цветы из оранжерей Пусона замечательно дешевые…
Глава десятая. Забытая победа или Сказание о Cарайском взятии
Знаменитая столица Батыева, где наши князья более двух веков раболепствовали ханам, обратилась в развалины, доныне видимые на берегу Ахтубы: там среди обломков гнездятся змеи и ехидны.
Н. Карамзин, «История государства Российского»1. О праздниках и юбилеях
Не секрет, что в позднем, предзакатном Советском Союзе, праздники и юбилеи весьма любили. Отмечали широко, с размахом: народу – зрелища, вождям – юбилейные награды, забугорным супостатам – наш социалистический кукиш: как ни злобствуете вы со своей пропагандой, а живем мы с каждым годом все лучше, все веселее…
Все рекорды в деле празднований-чествований побил, как мне помнится, 1980 год. Едва отгремело в марте всенародное ликование по поводу 110-летия Парижской Коммуны, подоспел апрель – юбилей Ленина, тоже сто десять лет, дата круглая. Едва отстрелялись, едва отстояли трудящиеся сто десять ударных смен, едва присвоили самым заслуженным коллективам имя Ленина и вручили юбилейные награды вождям, – тут и май на дворе, тридцать пять лет Победе. Монетные дворы едва успевали чеканить все новые и новые памятные монеты на радость нумизматам.
А летом – Московская Олимпиада. Не юбилей, но все же всемирный спортивный праздник. Правда, таковым он лишь планировался, а на деле оказался полувсемирным – чуть ли не половина стран-участниц Игры бойкотировала, протестуя против ввода советских войск в Афганистан (два с лишним десятилетия спустя главные организаторы бойкота продемонстрировали свойство известного длинношеего животного, проще говоря, жирафа: сообразили наконец, что терзаемая анархией страна, производящая на экспорт лишь наркотики и террористов, представляет угрозу всему миру, – и сами ввели в нее войска).
И еще не успел громадный олимпийский Мишка устремиться в небо на громадной связке воздушных шаров, а по всей стране, даже в Татарской АССР, уже полным ходом шла подготовка к празднованию нового грандиозного юбилея – шестисотлетия Куликовской битвы. Дата – круглее редко бывает, не с одним, с двумя нулями, и готовились к ней основательно. Юбилейные монеты, как положено. По радиотрансляции каждый день – очередная глава из эпического романа про поле Куликово (каюсь, забыл и автора, и название, и даже знающий всё Интернет не способен подсказать содержание давних радиопрограмм). И статьи, статьи, статьи, – во всех периодических изданиях, даже в самых непрофильных, никак с историей не связанных. Любой школьник, включая самых отпетых двоечников, был способен без запинки изложить ход сражения: вот тут Большой полк стоит, вот тут полки правой и левой руки, а вот тут Засадный в лесу притаился, сейчас как ударит – и побегут супостаты без оглядки…
Народ наш, честно говоря, немного перекормили Куликовым полем в то лето, и – вполне естественная реакция на переедание – пошел гулять ехидный анекдотец про объявление в магазине: Героев, дескать, Советского Союза и Соцтруда обслуживаем вне очереди, а героев Куликова поля – бесплатно. И песенка появилась не менее ехидная. Не по радио звучала, понятно, не на концертах, пели ее во дворах, под гитару:
Как на поле Куликовом
Засвистали кулики
И в порядке бестолковом
Вышли русские полки.
Перегаром самогонным
За версту разит,
Поднатужимся немного —
Будет враг разбит…
А у меня именно тогда, на излете лета 80-го года, возник не то чтобы терзающий душу вопрос, но скорее легкое недоумение: а почему почти никто не вспоминает про другую дату, выпавшую все на тот же год, – из той же, образно говоря, оперы, но еще более круглую? Про пятисотлетие окончания монголо-татарского ига? Полтысячелетия все-таки, да и событие рангом повыше… Куликово поле – всего лишь одна битва, пусть героическая, пусть победоносная – но все-таки не тот решительный перелом, что произошел ровно век спустя. Татар Мамая разбили – но уже два года спустя татары Тохтамыша разорили Русь, сожгли Москву, и вновь князья ездили за ярлыками в Орду, и вновь платили дань… Иго, одним словом. И свержение этого ига отчего бы не отпраздновать? Монеты почему бы не отчеканить, да по радио почему не зачитать хоть бы не роман, рассказов хоть пару-тройку?..
Но не чеканили [4]. И не зачитывали.
Праздник общегосударственного значения справили, по большому счету, на областном уровне – в Калуге. Там и статьи в местной прессе были, и памятник возвели на берегу Угры… Довольно скромный монумент, надо отметить.
Единственное, чем можно было объяснить такое равнодушие, – события, происходившие в 1380 году на Дону и Непрядве, оказались внешне куда более эффектными, чем стояние на Угре. Куликово поле – большое полевое сражение, много убитых и раненых, много героизма и совершенно однозначный результат: враг наголову разгромлен. Но, с другой стороны, – Угра, как учили нас историки, однозначная победа полководческая, победа в стратегии. Одолеть врага, не уложив в землю многие тысячи русских воинов, – если вдуматься, еще почетнее.
А героизм… Героизм у нас те годы, если в нем нуждались в пропагандистских целях, появлялся словно сам собой, словно по мановению волшебной палочки… В роли волшебников выступали чаще всего не историки, но авторы как бы исторических романов и режиссеры со сценаристами как бы исторических фильмов. Самый известный и одиозный пример – режиссер Эйзенштейн и его фильм «Октябрь». Батальное кинополотно получилось: рявкает пушка «Авроры», матросы и красноармейцы бегут через дворцовую площадь, юнкера с озверелыми лицами строчат из пулеметов, укрывшись за баррикадой-поленницей, но проигрывают в яростной схватке… Красиво и героично. Куда героичнее, чем реальность, в которой заняли Зимний без драки, вообще без единого выстрела, – когда после полуторачасовых переговоров ударный женский батальон ушел с постов, оставив без защиты Временное правительство. Причем снимал Эйзенштейн свою картину в 1927 году, когда хватало живых свидетелей «штурма Зимнего». И ничего, прокатило. Скушали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: