С Шаргородский - Красногубая гостья [Русская вампирическая проза XIX — первой половины ХХ в. Том I]
- Название:Красногубая гостья [Русская вампирическая проза XIX — первой половины ХХ в. Том I]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Salamandra P.V.V.
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С Шаргородский - Красногубая гостья [Русская вампирическая проза XIX — первой половины ХХ в. Том I] краткое содержание
Красногубая гостья [Русская вампирическая проза XIX — первой половины ХХ в. Том I] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вампирические и ведовские темы нередко встречаются в стихах старшей сестры Тэффи — поэтессы Мирры Лохвицкой (М. А. Лохвицкой, по мужу Жибер, 1869–1905).
Впервые: Весы. 1909. № 1, янв. Публикуется по указанному изд.
Готовя позднее рассказ к публикации в 1-м томе Сочинений (СПб.: Сирин, 1910–1912), Ремизов произвел некоторую (и не всегда удачную) стилистическую правку. Сухотины стали Бородиными, Лида — Лизой, было введено более реалистическое объяснение смерти Миши (лошадь выбросила из саней), вместо набивки папирос для отца и молчащих, незаведенных часов в тексте появился «уход за цветами» и вопящий от голода попугай (в журн, версии, соответственно, Зина перед смертью пишет не слово «попугай», а зловещую букву «б») и т. д. Однако в предпоследнем абзаце Ремизов усилил мотив мертвости Сухотина-Бородина: «И в ту же минуту огонь, распахнув пламенем дверь спальни, красным глазом кольнул мать, и обомлевшую дочь, и мертвую голову мертвого отца и, бросившись языками под потолок, развеялся красным петухом».
Ремизовский неупокойный мертвец давно и безнадежно мертв; заполучив в свой мир троих из четверых детей («Все потерялись — Миша, Лида, Зина и Соня, и все нашлись»), он совершает отчаянную попытку завладеть и младшей дочерью («одной Сони нет»), нарушая тем самым жертвенный уговор (отсюда пожар).
«“Жертва” очень сильная, жуткая вещь, — замечал А. Амфитеатров. — Написав ее, Ремизов имеет право отзываться о “Песни торжествующей любви” <���Тургенева> свысока, что это “только беллетристика”, в которой “нет ощущения кадавра, нет колдовства”, потому что в его-то рассказе этих ощущений — до жуткости. И все поразительно, — сказал бы, — “живо”, если бы речь шла не о мертвечине: невероятное правдоподобие в правдоподобном невероятии» [57] Амфитеатров А. О сновидениях // Сегодня (Рига). 1930. № 282, 12 окт. Амфитеатров цитирует статью Ремизова «Тридцать снов Тургенева». (впервые: Воля России. 1930. № 7/8).
.
Впервые: Телескоп. 1831. Ч. 3. № 10–12. Публикуется по изд.: (Мельгунов Н.). Рассказы о былом и небывалом. I: (с виньетою). М., 1834. Илл. взяты из указанного книжного издания.
Н. А. Мельгунов (1804–1867) — прозаик, публицист, литературный и музыкальный критик, композитор. Происходил из старинного дворянского рода. Служил по министерству иностранных дел, титулярный советник (1832). В 1820-30-х гг. держал известный в Москве лит. — музыкальный салон («мельгуновские четверги»). В 1835 г. уехал лечиться в Германию, с тех пор жил попеременно в России и Европе, знакомя европейцев с русской культурой. В 1850-х гг. сотрудничал в герценовских изданиях. Умер в бедности и болезнях в Москве.
Дебютное произведение Н. Мельгунова Кто же он? — это прежде всего изящная литературная игра, в рамках которой события и герои повести проецируются на Горе от ума А. С. Грибоедова. Комедия оставалась в то время неизданной и распространялась в списках; первые «полные» постановки (с цензурными изъятиями) состоялись лишь в год публикации повести, чем и объясняется настороженное отношение консервативного окружения Линдиных к «вольнодумной» пьесе.
Исследователи отмечают в дебютной повести Н. Мельгунова влияние знаменитого Мельмота-скитальца (1820) Ч. Р. Метьюрина — «иррациональное, мистическое получает реалистическую мотивацию, иногда окрашенную авторской иронией» [58] Евсеева М. К. Мельгунов Николай Александрович // Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 572.
. Но похоже, что ирония распространяется и на объяснение «ужасного» и «сверхъестественного», объяснение рационалистическое, но нарочито несуразное — недаром вопрос о сущности Вашиадана (ловкий мошенник, «злой дух, привидение, вампир, Мефистофель или все вместе?») остается открытым.
Публикуется по первоизд.: Зола Э. Вампир: Рассказ. Пер. Д. Борзаковского. М.: Театр, известия, 1899. Сбой в нумерации главок присутствует в оригинале.
Читатель, надо полагать, распознал в этой курьезной литературной мистификации Призраков И. С. Тургенева, впервые опубликованных в 1864 г. в сдвоенном № 1–2 журн. братьев М. М. и Ф. М. Достоевских Эпоха. Вероятно, переводчик Д. Борзаковский воспользовался французским переводом П. Мериме, напечатанным в журн. Revue des Deux Mondes (1866, 15 июня) — неточности в этом переводе, как известно, вынудили Тургенева внести в него большое количество исправлений перед публикацией в сб. Nouvelles moscovites (1869). Получившийся обратный перевод, разумеется, весьма далек от оригинала.
О личности мистификатора (если только эта явно коммерческая мистификация была задумана самим переводчиком) известно мало. На рубеже веков Д. Борзаковский переводил с нескольких европейских языков (произведения Э. Золя, А. Доде, М. Нордау, Так говорил Заратустра Ф. Ницше) и выступал как компилятор (Франк-масонство и тайные общества древнего и нового мира: Сост. по Ф. Клавелю и др., 1900). Очевидно, его можно отождествить с Д. А. Борзаковским, выпустившим в 1898-99 гг. в «Библиотеке Брокар и К°» книжечку рассказов Ложь и рассказ Роковая охота . Как бы то ни было, мистификатор должен был хорошо сознавать популярность Дракулы Б. Стокера и неизбежность возникновения «вампирской волны» в России.
Что же касается собственно Призраков, то принадлежность их к вампирической линии несомненна. Как указывал еще Л. Пумпянский в статье «Группа “таинственных повестей”» [59] Пумпянский Л. В. Группа «таинственных повестей» // Тургенев И. С. Сочинения. М.; Л., 1929. Т. 8. С. V–XX.
, «Эллис из другого мира вторгается вампиром в жизнь героя <���…> “Призраки” относятся (как частично и “Клара Милич”) к категории “вампирических” новелл (“у вас являющееся существо объяснено как упырь”, пишет Тургеневу Достоевский 23 декабря 1863 г.; физиологические подробности производят неприятное впечатление: «я успел почувствовать на губах моих прикосновение того мягкого тупого жала… незлые пиявки так берутся… доктор уверяет, что у меня крови мало, называет мою болезнь греческим именем анэмией…”). Между тем была эпоха, когда “вампирическая” литература свирепствовала в авангарде всей англо-французской “неистовой словесности” (la litterature frenetique). В 1820-е годы, вслед за “Вампиром” псевдо-Байрона, разлилось наводнение вампирической беллетристики всех видов. Она, правда, скоро отшумела, но несомненные нити тянутся от нее и к Э. По и к позднейшей беллетристике европейской. В каком отношении находятся “Призраки” ко всему этому литературному потоку? Наша литературная наука должна во всей серьезности поставить вопрос о творческих отношениях Тургенева, уже 1850-х и 60-х гг., к Э. По, а наряду с этим к раннему французскому декадентству (Бодлер прочитал Э. По уже в 1846 г.) и английскому прерафаэлитизму (к которому, по-видимому, восходит фигура Эллис). Когда совершился в европейской литературе перелом от вампиризма мужского (каким он был в “неистовой словесности”) к женскому (каким он чаще всего является у Э. По и всегда у Тургенева)? Тут нужно компаратистское обследование всего этого процесса, частью которого являются “Призраки”».
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги С Шаргородский - Красногубая гостья [Русская вампирическая проза XIX — первой половины ХХ в. Том I]](/books/1099030/s-shargorodskij-krasnogubaya-gostya-russkaya-vampiri.webp)
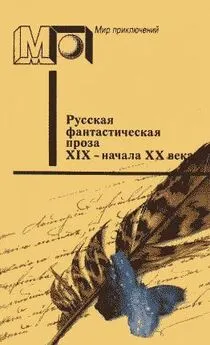
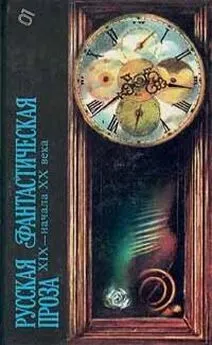

![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/1088261/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya.webp)
![Сергей Шаргородский - Красногубая гостья [Русская вампирическая проза XIX - первой половины ХХ в. Том II]](/books/1098929/sergej-shargorodskij-krasnogubaya-gostya-russkaya-vampiricheskaya-proza-xix-pervoj-poloviny-hh-v-tom-ii.webp)




